Тимофей (имя изменено) — трансмужчина. До 23 лет он никогда самостоятельно не пользовался метро и автобусом, не переходил дорогу один. Все потому, что его растила гиперопекающая мать. В детстве она избивала его за любую оплошность, не давала гулять с друзьями, провожала в школу, а потом в университет и на работу, даже когда он повзрослел. Она контролировала его вес и даже в душ ходила вместе с ним. Когда Тимофей устроился на работу, мать забирала его зарплату. В 23 года он сбежал от нее, но несколько раз вынужденно возвращался. Освободиться из-под опеки мамы, найти любовь и наконец-то начать жить как хочет Тимофей смог только в 36 лет. Он рассказал «Холоду» свою историю.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Тимофей только сейчас совершил социальный переход (в рамках социального перехода трансперсоны называют себя другим именем, меняют свои местоимения, гендерную репрезентацию и стиль одежды, не прибегая к медицинским изменениям. — Прим. «Холода») как трансмужчина. Раньше он идентифицировал себя как девушка Таня (имя изменено).
На маму, когда она училась в начальных классах, напал маньяк. Ее родители допоздна работали, и она возвращалась домой из музыкальной школы или с продленки одна. Открывала входную дверь с помощью ключа, который висел у нее на веревке вокруг шеи, разогревала себе еду, делала уроки и ждала, когда родители вернутся с работы. В один из таких дней за ней увязался неизвестный мужчина. Мама заметила его, только когда он зашел за ней в квартиру. Она не успела закрыть за собой дверь, как он схватил ее за горло сзади и начал душить. Мама сопротивлялась, и на звук возни вышла ее соседка по лестничной клетке. Преступник увидел ее, испугался, отпустил маму и убежал. На следующий день бабушка с дедушкой отправили маму в школу как ни в чем не бывало, с тем же ключом на веревке вокруг шеи.
Мама не любит вспоминать об этом, но я думаю, что этот опыт ее травмировал. И именно поэтому с самого моего рождения она очень волновалась за меня, порой избыточно. Бабушка рассказывала, что мама по несколько раз на дню кипятила и стерилизовала мои простыни, подгузники и все, что я только мог потрогать. Следила, чтобы в квартире было чисто как в операционной. Боялась, что я перестану дышать во сне, и постоянно проверяла, жив ли я. Из-за мамы я начал ходить гораздо позже сверстников. При первой попытке встать на ноги я упал — мама испугалась, что я могу травмироваться, и посадила меня в манеж. Вылезти за пределы манежа и снова попробовать встать и пойти мне позволили, когда я был уже совсем крепким карапузом.
Бабушка и дедушка в мамином подходе к моему воспитанию не видели ничего странного. Когда я подрос, многие мои одноклассники сами возвращались домой после школы, ездили на автобусах и трамваях одни, играли во дворе с друзьями. Мне же не разрешалось гулять одному, и из школы меня всегда встречал кто-то из родственников. Такие меры предосторожности, как я понимаю сейчас, были совсем не лишними: в 1990-е в Челябинске действительно было неспокойно.
Нормально они относились и к тому, что мама меня бьет: подзатыльник — это не удар, а шлепок; стегать с оттяжкой ребенка по лицу вафельным полотенцем — это не бить, это махать тряпкой. Бабушка рассказывала мне, как ее мама сломала ей нос, когда она собралась на свидание и не вытерла пыль под шкафом. Единственное бабушкино выходное платье перепачкалось в крови, и в итоге ни на какое свидание она не пошла. Мне эту историю рассказали как нравоучение: мол, после этого она поняла, что надо уважать родителей, и никогда больше не забывала вытирать пыль.
Я терпеливо сносил побои, но в определенный момент понял, что это все-таки ненормально. Однажды, когда мне было девять лет, на репетиции детского спектакля ребята баловались за кулисами и облили меня мыльными пузырями, которые мы должны были пускать в зал. Им это показалось смешным, а моей маме не очень. Она уже несколько раз говорила мне, чтобы я был осторожнее с пузырями, так как они оставляют пятна на одежде.
Мы с ней пошли на пострепетиционные посиделки с ее знакомыми. Все шло хорошо: мама особо не обращала на меня внимания, перешучивалась с коллегами, и я подумал, что меня пронесло. Когда мы остались с ней одни, я пытался продлить праздничное настроение: усердно шутил, пока мы поднимались на наш этаж в лифте, чтобы мама не вспомнила, что меня облили пузырями. Но не вышло. Как только мы вышли из лифта, мама подняла меня и впечатала головой в стену так, что у меня посыпались звездочки из глаз. Я тогда подумал, что это совсем не так прикольно, как показывают в мультиках.
Той ночью я до самого утра летал по стенам. Помню, как мама держала меня за уши и долбила головой об пол, как я смотрел на мир вверх тормашками, потому что она меня трясла за ноги. В какой-то момент она схватила с моего стола сокровищницу — сумочку от старого набора детской косметики, в которую я складывал монетки, — и ударила меня ей. Целилась в лицо, но попала в ухо, из-за чего у меня, как констатировали сильно позже врачи, повредился хрящ. Сумочка была набита монетами и была довольно тяжелой. Уже под утро мама устала меня бить, как следует меня обматерила и пошла спать. Это тоже не было для нее чем-то необычным — матерные слова я узнавал не из надписей на заборе, а от нее. К девяти годам я еще не знал, что такое «блядь» и «сука», но точно знал, что я — это оно.
Я думал, что побои продолжатся и на следующий день, но утром мама вышла на кухню к завтраку как ни в чем ни бывало. Спросила: «Ой, а что у тебя с ушком?» Больше мы с ней о произошедшем не говорили, и смелости спросить ее, что это было, я набрался только пару лет назад. Сначала мама пыталась меня убедить, что «чуть-чуть меня побила», потому что переживала, что я замерзну в мокрой кофте, потом призналась, что до репетиции у них с отцом произошел особенно неприятный разговор и она выместила на мне свою злость. Правда, она все еще настаивала, что я неправильно все запомнил, а поврежденный хрящ и многочасовые пытки я выдумал. Пойти со мной проверить ухо она, однако, отказалась.
«Передайте вашей маме, что ей не обязательно прятаться и ползать за колоннами»
Когда мне исполнилось 14 лет, мы переехали в Москву. Там меня отдали в частную школу — маме делали большую скидку за то, что я им повышал статистику успеваемости. Ребята в школе были сплошь представители золотой молодежи. Они с самого первого дня принялись меня жутко травить. Однажды я вошел в класс, где должен был проходить классный час, и не нашел куда сесть. На единственную свободную парту пятеро парней свалили свои сумки. Я попросил их подвинуть свои вещи, на что они мне ответили: «Встанешь на колени, отсосешь нам — может, и подвинем».
Так все ребята из нашей параллели ко мне и относились практически до самого конца школы. Издевались над моим весом, вымазывали мои вещи в разнообразных физиологических жидкостях. Орали на меня матом прямо во время уроков. Отбирали и ломали вещи, которые были для меня астрономически дорогими со словами: «CD-плееры стоят копейки, неужели ты не можешь себе купить еще?» Учителя просто пережидали, пока это закончится, даже не пытаясь за меня заступиться.
Преподаватель подготовительных курсов в Высшей школе экономики, на которые я ходил, знал, как мне плохо в моей школе, и приглашал меня в другую, где он преподавал. Но когда я сказал об этом маме, она устроила скандал. Мы жили в Марьино, а новая школа находилась на Воробьевых горах, и маме пришлось бы каждый день тратить более двух часов на дорогу туда и обратно. О том, что я мог бы проделывать этот путь самостоятельно, я не мог и заикнуться.
После окончания школы я по настоянию мамы стал изучать юриспруденцию в НИУ ВШЭ. В университете моя ситуация никак не изменилась: до второго курса мама все так же водила меня за ручку и встречала после пар.

Когда я перешел на третий курс, она ради приличия стала держать дистанцию в 50 метров. Однако от этого ее слежка не стала менее очевидной. Никогда не забуду, как мой научник однажды заявил при всех: «Таня, передайте вашей маме, что ей не обязательно прятаться и ползать за колоннами, мы все ее видим у входа. Если ей так надо за вами следить, пусть она делает это открыто». Я тогда чуть не сгорел со стыда.
Мама контролировала не только мои передвижения, но и внешний вид. Надевала на меня шерстяные жилеты и повязывала вокруг шеи отвратительные капроновые шейные платочки — она считала их очень стильными. Когда мы приходили в парикмахерскую и я объяснял, как я хотел бы, чтобы меня постригли, мама перебивала меня на полуслове, говорила: «Не слушайте ее, делайте как обычно».
То, что «за мной требуется глаз да глаз», мама объясняла тем, что я «чудовище» и «психическая». В детстве, когда она кричала на меня или била, я подходил к стене и раз за разом сильно ударялся о нее головой. Мама тогда переставала избивать меня и кричать. А я в таком жесте видел спасение. Бабушка и дедушка, зная о такой моей особенности, даже иногда останавливали маму, когда она начинала на меня кричать.
«Не доводи ее, а то она опять станет головой биться», — говорили в таких случаях они.
Однажды во время очередного скандала я взял в руки алюминиевую сушилку для белья и погнул ее так, что она сложилась пополам. Мама потом это не раз мне припоминала как доказательство того, что я могу кому-то навредить в состоянии аффекта. Порой я очень громко кричал на маму, пытаясь отстоять свою точку зрения. Мама была уверена, что я это делаю ей назло, чтобы опозорить ее перед соседями. На деле же она просто-напросто не воспринимала мои слова, когда я разговаривал с ней спокойно.
Из-за буллинга в школе и невыносимой обстановки дома я занимался селфхармом (селфхарм или самоповреждение — поведение, когда люди целенаправленно причиняют себе вред, не имея при этом суицидальных намерений. — Прим. «Холода»), резал себе вены на руках и на внутренней поверхности бедер. Поэтому мама до 23 лет не разрешала мне одному ходить в душ. На мои просьбы поставить шпингалет на дверь туалета, чтобы создать хоть какое-то личное пространство, она отвечала, что должна знать, что я не вскрываю там себе вены. Она могла в любой момент войти и просто стоять напротив, смотреть на меня. Иногда она заходила, чтобы справить нужду, иногда, чтобы устроить мне досмотр. Мама была очень обеспокоена тем, что у меня были прыщи, и всегда вела им учет.
Она безустанно водила меня по врачам, сажала на диеты и лечила от неведомых проблем с гормонами. Врачей, которые пытались объяснить ей, что это обыкновенные подростковые прыщи, она уличала в некомпетентности и все чаще водила меня к шарлатанам, которые уверяли ее в том, что у меня скрытый диабет, из-за которого я никак не могу избавиться от лишнего веса и прыщей. В ту пору я действительно был полненькой девочкой, но мама считала, что я страдаю от ожирения, и ограничивала меня в еде так, что в какой-то момент у меня начались голодные обмороки.
Когда мне исполнилось 20 лет, ее знакомые все чаще стали спрашивать у нее: «А когда же у Тани появятся мальчики?» Маму смущало мое социальное отставание, да и вообще она хотела, чтобы я когда-то родил ей внуков. Поэтому, когда за мной стал ухаживать мой одногруппник, она одобрила наши отношения и даже позволяла мне гулять с ним — при условии, что он должен был возвращать меня домой до 10 вечера.
Те первые мои отношения на проверку оказались абьюзивными. Мой молодой человек пользовался тем, что он мой билет на волю, а время с ним — моя единственная возможность хоть как-то видеть внешний мир и ненадолго сбегать от мамы. Он принуждал меня к сексу. Установил месячную норму, и если я ее не выполнял — больше не забирал меня на прогулки. Я вообще был очень удобной жертвой — на все соглашался и выполнял любые его приказы. Не только потому, что хотел любой ценой сбежать от мамы, но и оттого, что не понимал, как вообще должны выглядеть нормальные человеческие отношения.
В итоге мы расстались. Меня перестало устраивать, что сексом мы занимаемся чаще, чем гуляем, и делаем то, что хотелось бы мне. Ему тоже надоел я и мамины правила, и он перестал ко мне ходить. После расставания я все больше начал сидеть на интернет-форумах, в которых обсуждали фэнтези, и постепенно влился в тусовку толкинистов (фанатов творчества Толкина, которые наряжаются в персонажей из книги «Властелин колец», посещают тематические мероприятия и принимают участие в ролевых играх по мотивам произведения. — Прим. «Холода»). Так в интернете я подружился с петербуржцем, который сыграл очень важную роль в моем побеге из дома.
Как близкий друг, он был в курсе моей ситуации: несколько раз приезжал в Москву, приходил к нам пить чай, ходил со мной и мамой в театральный музей и даже возил меня на фестиваль фолк-музыки, предварительно договорившись с мамой, что вернет меня к обозначенному времени домой. Поэтому, когда я спросил у него, обрадуется ли он, если я приеду к нему в гости надолго, возможно, даже навсегда, он ничуть не удивился и незамедлительно ответил: «Конечно, приезжай!»
У него был день рождения, и я хотел сделать сюрприз — перевести небольшую сумму денег, на которую он мог бы купить себе подарок. Поступив в аспирантуру, я выиграл грант и получил повышенную стипендию. Поэтому деньги у меня были, но все они доставались маме. Когда мне нужно было что-то купить, мне приходилось просить у мамы мои деньги, обосновывать, зачем мне нужна та или иная вещь, и еще выслушивать лекции о том, какой я транжира.
В день рождения моего питерского друга я сдавал кандидатский минимум. Как обычно, мама отвела меня туда и осталась ждать. Я договорился с ребятами, чтобы они пустили меня первым. Так я выиграл 15–20 минут. Сбегал в кассу, получил стипендию, вышел через второй выход и побежал в ближайшее отделение Сбербанка. Там я снял 500 рублей и перевел их другу.
Я надеялся, что мама ничего не узнает о моем побеге, а пропажу столь незначительной суммы и вовсе не заметит. Как бы не так! Мама ждала меня напротив входа в банк. Оказалось, что ребята, не зная ничего о моих планах и наших с мамой отношениях, рассказали ей, что я раньше всех сдал минимум и ушел. Всю дорогу домой, пока мы шли по улице и ехали в метро, мама орала на меня, называла предательницей, ворьем, крысой и блядиной за то, что я посмел потратить 500 собственных рублей. У людей же вокруг, которые слышали ее ор, должно быть, сложилось впечатление, что я по-крупному обокрал мать. Они смотрели на меня с укоризной, а я только и думал, как я вообще оказался в этой ситуации, в этом городе, среди этих людей.
Тогда я резко понял, что не обязан так жить. В тот же вечер я написал своему другу и, получив его согласие, сложил свои вещи в чемодан и уехал к нему в Питер. Вырваться из квартиры мне, конечно, было непросто — мама кричала на меня и преграждала путь к двери. Звонила своей сестре, и они вдвоем уговаривали меня одуматься и не уезжать.
«Мы всю жизнь создавали вокруг тебя иллюзию, что ты нормальный человек, чтобы ты не чувствовала себя ущербной. Вот ты и поверила, что сможешь жить одна, как все. Но ты не как все, ты психическая. Ни черта не сможешь, приползешь обратно, а нам только придется разгребать твои проблемы», — говорили мне они.
Я молча выслушал их и сказал, что выйду из этой квартиры, чтобы они ни делали. А если мама станет применять ко мне силу, и вовсе вызову полицию. В итоге мама сдалась и отпустила меня.
Свою тюрьму я унес с собой
Я думал, что в Питере я наконец-то заживу свободно и счастливо, но получилось не так. Я винил себя, что так жестоко поступил с мамой, бросил ее, и, сам того не осознавая, продолжил жить так, чтобы она была мной довольна: вел себя и одевался так, как ей нравится, на удаленном режиме дописывал ненавистную мне юридическую диссертацию.
До 23 лет я жил под домашним арестом, и все, что знал о себе и мире вокруг, знал через призму маминых взглядов. В 16–18 лет я мечтал, как однажды вырасту и буду ходить на концерты, выставки, знакомиться с разными классными людьми.
Казалось бы, освободившись, я должен был стремглав бежать, узнавать себя, наверстывать упущенное. Но на это у меня совсем не осталось сил. Я вышел из наших с мамой созависимых отношений таким уставшим и растерянным, что не знал ни кто я, ни чего я хочу от этой жизни. Ни о каких концертах и социализации не могло идти и речи.
Сложно было и от того, что я совершенно не был подготовлен к самостоятельному существованию. Мне было страшно впервые пользоваться общественным транспортом, и поначалу каждый раз, когда мне приходилось переходить дорогу, у меня случались панические атаки. Мне казалось, что меня непременно собьет машина, если я один ступлю на пешеходный переход, поэтому я глубоко дышал и терпеливо ждал, когда к светофору подойдут еще люди, и переходил дорогу только за ними. Я также очень плохо ориентировался на местности без карты — однажды умудрился заблудиться в собственном дворе, когда возвращался домой из супермаркета.
Маме удавалось меня контролировать и на расстоянии. Она несколько раз на дню звонила мне, просила меня писать о своих планах на день и отчитываться о том, когда я приходил с работы домой и наоборот. Переживала, когда я дольше получаса не отвечал ей на сообщения, следила за моим циклом и тем, принимаю ли я выписанные мне лекарства. Каждую ночь перед сном она спрашивала, помыл ли я посуду и точно ли выключил газовую плиту. А также просила меня тщательнее сушить волосы перед сном и надевать пижаму потеплее, чтобы ни в коем случае не простыть.
В Петербурге я завел котов, и это был единственный протест против мамы, который я смог себе позволить. Она терпеть не могла домашних животных. А я, пребывая в депрессивном состоянии, понял, что мне очень надо, чтобы кто-то ждал меня дома.
Друг, к которому я приехал в Петербург и с которым мы поначалу вместе жили, уехал учиться в Европу, и я остался в городе совсем один. Друзей помимо него у меня не было, с виртуальными знакомыми из ролевой тусовки я тоже перестал общаться.
Путь домой у меня лежал через Неву, и каждый раз, когда я заходил на мост, мне хотелось с него прыгнуть. А когда я завел котов, такие мысли все реже стали лезть в ко мне в голову: я понимал, что, если сделаю это, никто не покормит моих котов, и шел домой их кормить.
На третий год жизни в Петербурге я понял, что с меня хватит, и перебрался обратно к маме в Москву. Мама всегда звала меня обратно, но тогда я был ей особенно нужен: умерла бабушка, она тяжело переживала эту утрату, к тому же у нее начались проблемы со здоровьем. Тогда мне казалось, что тетя с мамой были правы. Попробовав жить один, я понял, что я действительно неполноценный: не могу самостоятельно сходить в магазин, перейти дорогу, съездить в университет и не попасть в беду.
По возвращению домой мне удалось выстроить более четкие границы с мамой. Она не хотела, чтобы я снова от нее сбежал, и поэтому перестала обращаться со мной как с ребенком. И пусть она все равно проявляла признаки чрезмерной заботы, она стала гораздо меньше вклиниваться в мою жизнь. Перестала провожать меня куда бы то ни было и даже прекратила заходить ко мне в комнату без приглашения, проверять, что я там делаю. Боялась лишний раз сталкиваться с котами, которых я привез с собой. Им так и не удалось подружиться с мамой, зато они отлично выполняли функцию шпингалетов, которые мне так и не установили на двери в комнате и туалете.
В Москве я занялся терапией. Это был неудачный опыт, но в одном специалист мне все же помогла — сказала, что моя клиническая депрессия в частности продиктована отсутствием в моей жизни смысла, и посоветовала поискать его в профессиональной самореализации. Я действительно ненавидел юриспруденцию, да и работа переводчиком за копейки радости не приносила. Поэтому я решил поступить на бюджет в магистратуру, изучать антропологию и шотландскую и ирландскую мифологию. Мама видела, в каком я был состоянии — целыми днями только и делал, что лежал лицом к стене, — и надеялась, что учеба поможет мне развеяться.
Мне очень понравилось учиться. В итоге я начал плотнее заниматься наукой, получил ученую степень и в 2017 году стал преподавать антропологию и фольклор на факультете Liberal Arts в РАНХиГС. Приблизительно в это же время я съехал от мамы — в квартиру, которую отдал мне в собственность отец. Он очень эфемерно присутствовал в моей жизни. Когда-то звонил, писал и искал встречи, когда-то мог несколько месяцев подряд совсем не выходить на связь. Но, несмотря на это, он всегда поддерживал меня материально: отсылал маме деньги на мое воспитание и на этот раз выручил с жильем.
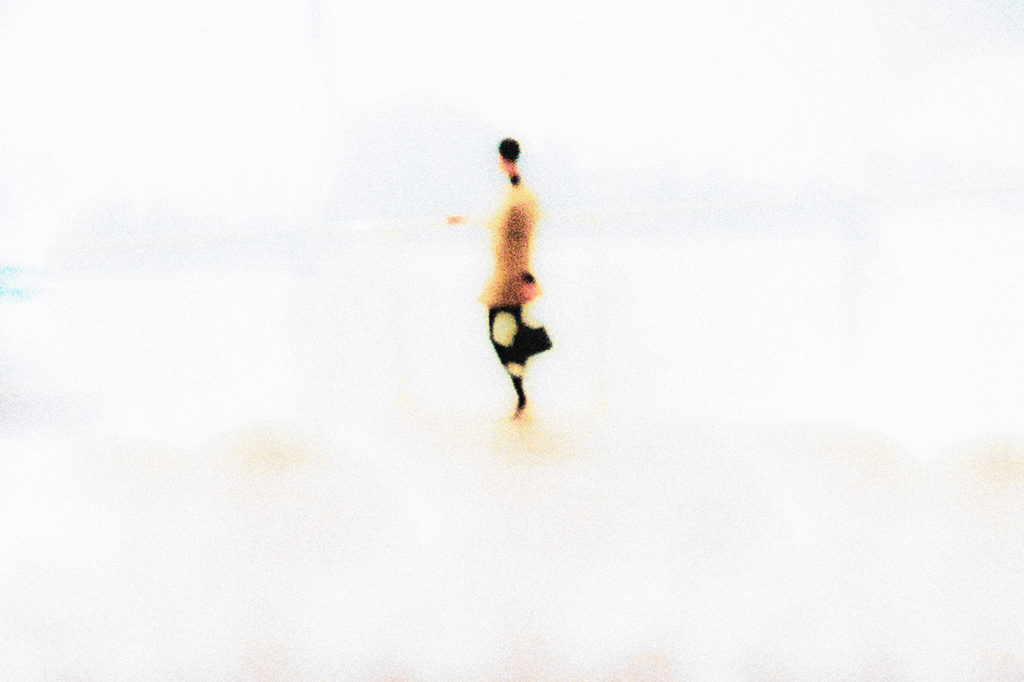
Тогда же я стал плотнее общаться с одним моим старым знакомым, который позднее совершил каминг-аут как транспарень. Мы как-то переписывались с ним в пору моего увлечения толкинизмом и даже пересекались на ролевых мероприятиях в Москве, и тут вдруг возобновили общение в соцсетях. Он планировал уезжать учиться в Ирландию и до отъезда хотел со мной увидеться. Он тогда выходил из травматичных отношений, и я его очень поддерживал, потому что понимал, как это — жить в абьюзе и пытаться из него выпутаться. В январе 2022 года он приехал ко мне из Ирландии на рождественские каникулы, и признался мне в любви. Я тоже понял, что испытываю к нему любовные, а не дружеские чувства.
Поскольку мне было не с кем обсудить мои переживания, я пришел за советом к маме. И лучше я бы этого не делал. Она внушила мне, что я путаю любовь с привязанностью, и сказала, что «на девушку меня потянуло» (в тот момент партнер Тимофея еще не совершил каминг-аут как трансмужчина. — Прим. «Холода»), потому что мне скучно и одиноко. А также напомнила, что я не совсем в себе и, если бы действительно любил человека, не стал бы связываться с ним и привлекать в его жизнь лишние проблемы. Я послушался маму и решил, что буду любить друга издалека, чтобы не навредить ему. Два с половиной месяца я изводил себя установкой, что я недостойный любви монстр, и боролся с внутренней гомофобией и трансфобией. А потом плюнул на все и признался своему другу в любви в ответ.
Так в моей жизни наконец-то появился, человек, который принимает меня таким, какой я есть. В отношениях с ним я нашел в себе силы понять, что очень большая часть дискомфорта и боли в моей жизни исходила из моей скрытой транссексуальности, а ощущения, что я чужой в собственном теле и жизни, которые преследовали меня с самого детства, вовсе не выдумки.
Но до того, как мне удалось осознать это про себя, началась война. Летом 2022 года наш факультет обвинили в «разрушении традиционных ценностей» и закрыли, а я стал планировать переезд. Я не скрывал того, что состою не в гетеросексуальных отношениях, и донатил ВСУ. И от этого переживал, что могу попасть под каток репрессий.
Мои бабушка и дедушка были выходцами из еврейских семей, которые бежали на Урал из Польши и Украины от Холокоста. Поэтому я довольно быстро собрался и решил репатриироваться в Израиль. Котов я определил в добрые руки, и через некоторое время двое из них умерли от старости, так что мне даже не пришлось хлопотать об их перевозе за границу. И тут мама неожиданно изъявила желание поехать со мной, хотя раньше не горела желанием репатриироваться, да и вообще не сразу осудила войну.
Я не хотел жить вместе с мамой, но в Израиле нам пришлось делить квартиру. Во-первых, там были очень высокие цены на жилье, а во-вторых, я пообещал, что буду заботиться о маме в новой стране, и намеревался сдержать свое обещание — тем более, что моя семья поставила мне ультиматум: либо я уезжаю из России с мамой, либо уезжаю в Лефортово (в Лефортово в Москве находится следственный изолятор. — Прим. «Холода»).
В Тель-Авиве мама попыталась вернуть все в удобную ей точку, где я несмышленый малыш, а она авторитетный взрослый, которого я не могу ослушаться. Она всегда просилась всюду со мной ходить под видом того, что никак не может привыкнуть к жизни в чужой стране. Однажды я купил в пекарне недалеко от дома кекс и заметил, что он плесневелый, только распаковав его дома. Он стоил 50 шекелей — вполне ощутимые для нового иммигранта деньги, — и я решил пойти в магазин, рассказать продавцу, что мне продали испорченный продукт, и попробовать вернуть деньги. Мама на это сказала: «Я с тобой пойду, но буду держать дистанцию в 100 метров — ты меня даже не заметишь». У меня тогда случился «вьетнамский флешбэк»: я понял, что со мной это уже все было и я очень не хочу попасть обратно в эту ситуацию, когда мама ходит за мной по пятам, куда бы я ни пошел.
Тогда у нас с мамой состоялся разговор, который давно назревал. Я ей рассказал все, что думаю о ее отношении ко мне, а она завела свою обычную шарманку о том, что я моральный урод, нуждающийся в ее защите. Это я уже много раз слышал, но затем она стала оскорблять моего любимого человека, и этого я уже стерпеть не мог. Мама сказала, что таких, как он, нужно лечить транквилизаторами (партнер Тимофея как раз тогда совершал транспереход. — Прим. «Холода») и что у нас не семья, а дурь какая-то.
«В настоящей семье у одного из партнеров должен быть член, с которым он родился, а все остальные комбинации — это извращение», — сказала мне мама.
Она продолжила говорить, что такие, как мы с моим парнем, недостойны любви, а бог сотворил меня таким чудовищем в наказание ей за то, что она родила меня вне брака. После этих слов я собрал свои вещи и уехал в Хайфу. Я работал в IT на удаленке и мог себе позволить улететь хоть на Марс.
С тех пор я ни разу с ней не разговаривал. Она писала и звонила мне, сетовала, что я ее бросил в незнакомой стране одну-одинешеньку и пыталась помириться. Но я оставался непреклонным. Я знал, что мне придется совсем вырезать ее из своей жизни, если я хочу когда-либо выйти из этих болезненных отношений.
Мама какое-то время еще пожила в Израиле, а потом вернулась в Россию. Аккаунты в некоторых российских магазинах мама заводила на мое имя, и вскоре я узнал, что ее лепет про беспомощность был очередной уловкой, чтобы покрепче привязать меня к себе. На деле же оплачивать счета и покупать платья ушедших из России брендов она прекрасно умела и без меня.
Летом 2023 года я переехал к своему парню в Ирландию, и с тех пор могу искренне утверждать, что наконец живу свою лучшую жизнь с человеком, который стал моим мужем.
Все как нельзя лучше складывается у меня и в профессиональной сфере. Я поступил в школу политологии и социологии в Голуэе. Здесь, конечно, совсем другой уровень академической свободы, совсем нет запретных тем, и мне наконец-то удается делать междисциплинарные исследования, о которых я всегда мечтал. Помимо получения докторской степени в социологии и политологии и написания диссертации в области исследований памяти, я много рисую и открыл для себя фотографию, начал социальный переход.
Меня очень радует, что всех этих людей — моих родственников и псевдодоброжелателей — больше нет в моей жизни. Я наконец чувствую себя на свободе и в безопасности. Моя жизнь перестала со мной случаться, она стала тем, что я творю сам. Все это было бы невозможно без поддержки моего любимого человека. Именно он помог мне справиться с грузом моего детства и юности. Благодаря его поддержке, любви и, конечно, не без помощи терапии я наконец живу так, как всегда хотел.
Несколько месяцев назад мой муж отправил вежливое сообщение моей маме, в котором сообщил, что общаться отныне со мной она сможет только через него, и тем самым поставил точку в наших отношениях. Мама на это сообщение не ответила. О том, как я живу сейчас и что я совершил транспереход, она не знает. Может, оно и к лучшему.














