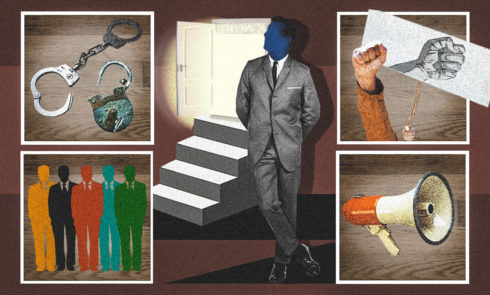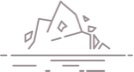Кто прав, уехавшие политики или оставшиеся? Какой из вариантов смены власти в России — самый надежный и безболезненный? Что делать на выборах президента в 2024 году? Редактор «Холода» Максим Заговора поговорил с Екатериной Шульман о возможностях, которые могут появиться у россиян в ближайшем будущем.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Это сокращенная и отредактированная версия интервью из видеопроекта «Мы здесь власть». Полную версию интервью с Екатериной Шульман смотрите на ютуб-канале «Холода».
Лучший сценарий смены власти
За 13 эпизодов нашего проекта «Мы здесь власть» прозвучало много вариантов будущего России — от насильственного переворота до добровольной передачи власти. Я не спрашиваю вас, как будет. Мне интересно, какой вариант лучше всего, то есть, с одной стороны, самый безболезненный, а с другой — самый радикальный. О чем нам мечтать?
— Это хороший подход, на самом деле: он не такой идеалистический, как может показаться, потому что есть некоторые подсчеты, которые позволяют нам выявить корреляцию между тем, каким способом вы избавились от предыдущего «начальника», и тем, какая у вас жизнь пошла после этого.
Я буду опираться на Барбару Геддес — известного современного политолога — и ее работы по трансформации авторитарных режимов. По ее оценкам, чем более мирным путем сменился режим, тем больше шансов на установление устойчивой демократии.
Иными словами, если вы поддались чувствам и повесили своего тирана, то чаще всего после этого у вас наступает период нестабильности: какие-нибудь новые диктаторы, которые начинают сменять друг друга калейдоскопически, пока из них не выявится кто-то, кто усядется твердо. Это будет так называемая сильная рука, победитель хаоса во имя космоса — тот, кто запер титанов в чреве матери Земли, если воспользоваться греческой метафорой. И он вам тоже вряд ли понравится. К сожалению, не то чтобы у людей есть выбор. Обычно автократии доводят дело до такого положения, что мирно их уже не сменишь.
Но самый лучший способ — это если ваш засидевшийся лидер отдаст власть добровольно. Это и для него хорошо: он жив остается (и даже снижает вероятность других сценариев после потери власти — изгнания и тюремного заключения) и будущее своему народу обеспечивает более мирное. Но почему-то сами автократы не смотрят никакую статистику и ни во что такое не верят. Даже примеры предшественников их почему-то не вдохновляют: одни держались за власть и были расстреляны, другие ушли добровольно, как Михаил Сергеевич Горбачев, и дожили до старости. Но обычно автократы хотят сидеть до последнего.
А важно, кому тиран добровольно передал власть? То есть одно дело, если Путин передает пост Мишустину, другое дело — Навальному. Это же две разные ситуации?
— Вы привязываетесь к персоналиям. Не важны личности — важны механизмы. Передача власти — это соблюдение некой правовой нормы, демонстрация того, что можно уйти живым. Вот это важно, это остается в памяти народа. Поэтому Мишустину или не Мишустину — неважно.
Главное, выражаясь языком политологии, что это будет правитель с рационально-правовым типом легитимации. Он придет к власти не революционным способом, не потому, что он заехал в Кремль на белом коне, а по процедуре. Он с большей вероятностью уже не просидит 133 срока, а просидит, сколько написано. Потому что ему по бумажке власть передали — ну вот и он по бумажке власть тоже передаст.
Вы на это можете возразить, что приблизительно такая же история была с Ельциным и Путиным. Но на тот момент это был хороший вариант. Это был вариант мирный. Впрочем, есть варианты и получше: пойти на выборы, проиграть, передать власть. Так делают в демократии. Автократы не хотят так поступать, потому что для них уход от власти ассоциируется с потерей имущества, статуса, свободы и часто жизни.
А из всех автократий персоналистская — самая паршивая. Политологи ее не любят. Партийные автократии пользуются лучшей репутацией, потому что они более институционализированы и более долгоиграющие. Можно выращивать внутри правящей партии новую элиту и как бы менять власть, не меняя систему, а там, глядишь, в силу вещей постепенно произойдет демократизация.

Сила вещей?
— Сила вещей в данном случае — это просто смена экономической формации с индустриальной на постиндустриальную и увеличение доли городского населения. Вот и все. Тут не надо каких-то особенных чудес. Вот эти процессы сами по себе влекут за собой поэтапную демократизацию.
Военная автократия, так называемые хунты, — тоже более любимые и одобряемые политологами, потому что они, как ни странно, живут меньше. И для них больше вероятность передать власть на выборах потом, потому что обычно эти хунты возникают как такие правительства национального спасения. Ну вот, скажем, был у вас персоналистский автократ какой-нибудь неудалый. Дальше он завел дело в тупик. Например, войну какую-нибудь не ту начал и не так ее повел. Дальше его свергает группа военных и говорит: «Отечество в опасности — мы его спасем. Спасем, а потом восстановим конституционный порядок». Конечно, они тоже, бывает, засиживаются. Пример — Мьянма (в феврале 2021 года военные под командованием генерала Мин Аун Хлайна совершили переворот и обещали вскоре провести демократические выборы. Никаких выборов не последовало. В Мьянме до сих пор идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства. — Прим. «Холода»).
Но в довольно значительном количестве и южноамериканских, и африканских стран хунты действительно проводили выборы. Им нужно было как-то интегрироваться в мировое сообщество, получать международную помощь, а международная помощь не оказывается незаконным правительствам. За это политологи их и полюбили и написали некоторое количество статей под заголовками типа «good coup» — «хороший переворот», «переворот за демократию».
А вот персоналистские автократии никто не любит. Они привязаны к персоналии. Персоналия все равно умрет и наследника нам не оставит, потому что у нее нет никаких механизмов передачи власти. И тогда начинается то, что наш президент выразительно описал фразой «начинают рыскать глазами». А зачем они рыщут? Ищут преемника для того, чтобы вовремя переметнуться на его сторону. И вся система становится неработоспособной.
Так вот когда персоналия наша прикажет долго жить, она после себя оставит деинституционализированный пейзаж. Ничего нет. И тут, конечно, может произойти разное. Пример, который приводят часто, — это март 1953 года, смерть Сталина. Его соратники, при всем том что они были трусы, все же сумели как-то самоорганизоваться над его трупом. Одного нашли из своих, назначили его главным злодеем и застрелили (26 июня 1953 года Лаврентий Берия был арестован по обвинению в измене родине, шпионаже, актах произвола и антисоветском заговоре. Его расстреляли 23 декабря 1953 года. — Прим. «Холода»), а дальше договорились, что не будут друг друга убивать. Кроме этого, после смерти Сталина внутри условного политбюро убийств не происходило.
Обратите внимание, что этот договор продержался до конца советской власти, а можно сказать, что он действует и по сей день. Ну, за некоторыми исключениями. То есть мы друг друга отправляем на пенсию как Хрущева, отправляем заведовать электростанциями как Маленкова, но не убиваем.
Проблема нашей диктатуры не только в том, что она диктатура, а в том, что она ведет войну. Избавляясь от диктатора, избавляемся ли мы гарантированно от войны?
— Тут мы можем говорить только о вероятностях. Мне кажется, что эта война очень персональная. То есть никто из других членов элиты до такой степени себя в нее не инвестировал. При том, что почти все они в той или иной степени на этой войне наживаются, но это происходит от их элитного статуса.
У нас пока не появилось настоящих бенефициаров войны — тех, у кого не было ни гроша, а вдруг алтын. Кто на войне въехал в Кремль, грубо говоря. Есть у нас такие?
Пригожин был.
— Правильно. Очень хороший пример. И где же он, Евгений Викторович, этот незабвенный? Не по этой ли причине?
Новых военных элит не только нет, но пока я вижу всяческие усилия, прилагаемые к тому, чтобы они не появились. Обратите внимание на отсутствие каких-то кадровых обновлений. Где новые лица во власти? Мы видим кого-нибудь? Покойный Пригожин пошел на Москву с лозунгом «Надо снять министра обороны и главу генштаба». Пригожин лежит в земле сырой (или не лежит), а эти братья на своих должностях находятся. Элита сторожит самое себя. Кто, кроме президента, до такой степени ассоциируется с этой войной?
Очень многие. Например, весь Совет безопасности, да и в целом — вся политическая элита. Она связана с этой войной своими заявлениями, поступками, голосованием в Госдуме, в конце концов. Окончание войны и признание войны катастрофической ошибкой будет для них политически, а может быть и физически, смертельным.
— Не уверена. Вспомните знаменитое заседание Совета безопасности 21 февраля. Оно было сделано для того, чтобы весь Совет безопасности присягнул в войне.
Это то, что в мафии делается: каждый должен ударить жертву, все соучаствуют в убийстве.
Каждый из них сможет сказать: «Посмотрите на эту видеозапись, он нас заставил. Он нас всех прилюдно унизил; я вообще не знал, что говорить; у меня язык заплетался от ужаса; он один сидел и ухмылялся, довольный такой, это его идея! Это его план и его война. Мы даже ни о чем не знали».
Патрушев, помните, сказал: давайте дадим старику Байдену еще один шанс. Нарышкин вообще не мог понять, где он находится. Один Золотов что-то пробарабанил и все. Где удар, нанесенный в сердце жертвы твердой рукой?

То есть нынешняя элита может сохраниться после окончания войны?
— Тут, к сожалению, я вам дам популярный экспертный ответ — и да, и нет. Как во «Властелине колец». Спроси у эльфа совет, услышишь в ответ и да, и нет. Все эксперты таковы. Буквально эльфы.
Но мне кажется, что, если ты такой персоналистский автократ, в тебе вся власть и заключается. Все, что тут есть, — твое. Все, что происходит, — ты тому причиной. Все, что получилось, — ты молодец. Все, что не получилось, — твоя ответственность. Нет тебя — с тобой похоронили всю твою политику. Все оставшиеся люди — это не какие-то там птенцы твоего гнезда. Вот был начальник, мы его слушались, а иначе он нас убил бы всех. Теперь другие времена, другие мы. Видели мы эти превращения — ударились о землю, обернулись Финистом — Ясным соколом. Это все вполне возможно. Я вам это для того рассказываю, чтобы вы не очень удивлялись, когда и если это начнет происходить.
То есть, возвращаясь к нашим интервью с политиками, которые планируют бороться за власть после Путина, правильно ли я понимаю, что более выгодная стратегия для них — обещать безопасность нынешним элитам, а не обещать народу всех наказать и расстрелять?
— Не хочется никого учить политической безнравственности, но есть вещи, которые говорятся публично, а есть вещи, которые говорятся непублично. На разные аудитории — разные сообщения.
Вообще говоря, если у вас не происходит действительно полномасштабной революции и следующей за ней большой резни, то элиты сохраняются. Элиты сохраняются и самовоспроизводятся.
Какого-то Берию можно в подвале расстрелять, если уж очень хочется. Другие люди сами уйдут с большим удовольствием, сказав спасибо, что отпустили живыми. Я думаю, что масштабные чистки особо не нужны. Когда людям начинают показывать другой пример, они начинают вести себя по-другому. Опять же, это если мы говорим о нашем с вами счастливом сценарии — постепенной, поэтапной демократизации.
А как быть с аргументом, что именно вот такие незаконченные чистки — причина наших нынешних проблем? То есть если бы мы тогда всех советских начальников, чиновников и прочих директоров заводов не оставили у власти, сейчас бы жили в другой стране.
— Возможно. Может быть, это помогло бы предотвратить советский реванш, который мы сейчас наблюдаем. А может быть, это бы настолько дезорганизовало управленческий механизм, что кризис был бы еще глубже и выход из него был бы более, скажем так, радикальный. Трудно рассчитать.
Мне, как политологу, представляется, что дело не в том, что недостаточное количество начальников тогда повыгоняли. А в том, что недостаточно развинтили силовые ведомства.
Я не просто политолог, я институционалист (исследует не отношения между людьми, а работу институтов, через которые осуществляется политика: парламенты, своды законов, полномочия органов власти. — Прим. «Холода»). Поэтому мне не кажется очень важным, какой конкретный человек на какой должности сидит. Мне кажется важным, как организованы структуры, то есть институты. Если с этой точки зрения разделить ФСБ на пять контор, каждая из которых занимается своим делом, то можно оставить прежних начальников. У вас был директор департамента — он будет называться директором службы. Но это будут структуры, которые будут слабее, и они будут конкурировать между собой.
Структурные преобразования и правовые реформы представляются мне куда более значимыми, чем персональные. Но большинство людей не институционалисты, а нейротипики. А нейротипики, как известно, зацикливаются на отношениях, а не на процессах.
Поэтому [им], конечно, гораздо интереснее составлять списки неприятных людей, которых повыгоняют со службы, а, возможно, и посадят. Это, кстати, тоже часто путают.
Если кто убивал, давал указания об убийствах, воровал общественные деньги и иными способами безобразничал — для них у нас есть Уголовный кодекс. Для этого не нужна никакая специальная люстрационная кампания. А вот структурные реформы будут влиять на тех людей, которые еще не родились и которые будут занимать должности, когда нас с вами уже не будет. В этом, собственно, прелесть институтов. Институты бессмертны в отличие от людей, которые, как известно, мало того, что смертны, так еще неизвестно когда.
Шансы нынешней оппозиции: от Каца до Шлосберга
Политиков, с которыми мы говорили, можно разделить на два условных лагеря: те, кто остаются в России, и те, кто находятся за границей. Первые говорят, что политики — это именно они, а остальные — блогеры. «Блогеры», в свою очередь, говорят, что они могут говорить свободно, у них есть популярность, которую они потом конвертируют в политическое влияние. Кто прав? И насколько медийная активность действительно трансформируются в политическое влияние?
— И те, и другие правы, скажу я голосом эксперта. Политик — это тот, кто ведет борьбу за власть либо за долю во власти. Власть многолика, способы ее достижения также многообразны. То, чего добиваются или могут добиться публичные спикеры, — это то, что Макс Вебер называл авторитетом. Он различал власть и авторитет.
Власть — это способность заставить выполнять свои указания знанием того, что у тебя есть силовой ресурс. Это легальное насилие. Авторитет — это способность заставить делать то, что ты хочешь, без применения насилия или угрозы. Авторитетом обладают те люди, которые говорят и их слушают. Я считаю, это тоже власть. Более того, это ровно та форма власти, к которой все сильно стремятся, потому что она не зависит от должности и от того, где ты находишься. Это власть над умами.
А дальше вопрос, как ее конвертировать во власть над поведением. Может быть, люди вас слушают просто потому, что им приятно? Это их развлекает или отвлекает? Можете ли вы им сказать: «Иди голосуй, подпиши петицию, ответь на вопрос, произведи какое-то действие, лезь на баррикады, жги покрышки»? Они пойдут? Кто из нас вообще рискнет такую проверку произвести? Призывать людей к действию в условиях репрессивной автократии — то еще занятие. Это довольно безнравственно.
Но можно какие-то маленькие подсчеты произвести. Ну, например, были выборы в сентябре этого года, да?
Это были выборы, на которые всем было наплевать. Никто ни к чему так уж не призывал.
— Так уж не призывал, но кто-то что-то говорил. Я провела свой маленький эксперимент. Его результаты скромные, но, что называется, not negligible (не пренебрежимо малые. — Прим. «Холода»). Какая-то возможность призвать людей совершить безопасное для них действие существует. Я так аккуратно выражаюсь для того, чтобы не преувеличивать степень моего или чьего-то еще влияния.
Люди готовы слушать рекомендации, если выполнение этих рекомендаций не несет для них избыточных рисков. Это немного, скромненько, но это сколько-то.
Те люди, которые находятся в России и героически продолжают политическую деятельность, — тоже могут попытаться такой расчет произвести. Если они баллотируются в муниципальные депутаты либо поддерживают кого-то, кто баллотируется, то этот расчет проще. Сколько проголосовало? Конечно, никогда нельзя высчитать, сколько проголосовало именно по вашему призыву. Может, люди случайно проголосовали — портрет понравился на избирательном участке. Но тем не менее вот условный политик, находящийся в России, идет на выборы и получает сколько-то голосов. Это, в общем, уже почетно.
С точки зрения ограниченности возможностей мы [те, кто уехал, и те, кто остается в России] находимся в равном положении. Те, кто в России, могут куда-то ходить ногами и взаимодействовать с людьми физически, ну и, соответственно, люди могут взаимодействовать с ними физически. Те, кто вне России, могут говорить, но не могут ходить по родной земле и, опять же, взаимодействовать со своей аудиторией непосредственно. Хрен редьки не слаще, скажу я вам.

У меня такое ощущение, что самый свободный человек во всем российском политическом пространстве — это Илья Яшин. Он и говорит, что хочет, и сообщения свои передает наружу, и общается с людьми, правда, внутри этой специфической среды, но тем не менее. Остальным сложнее.
Оппозиции нужна коалиция?
— Чтобы что?
Чтобы выработать единую стратегию на выборах президента в 2024 году, например. Чтобы на постпутинские выборы идти коалицией.
— Кстати говоря, Григорий Голосов, политолог, который как раз работает в России, писал — причем для «Холода», — что, может быть, не надо соглашаться на досрочные выборы сразу после. Если настанет эта самая режимная трансформация, причем такая, в которой оппозиция может принимать участие, то не надо вестись на ловушку скорых досрочных выборов, а надо заставить существующую власть, если есть возможность на нее давить, принять сначала те законы, которые будут эти свободные выборы обеспечивать. Потому что если в существующей рамке с существующими органами, в том числе избирательными, проводить выборы — то мы получим тот же самый результат. Они его точно так же нарисуют. Или даже если не нарисуют, то у новых политических сил не будет времени для того, чтобы сформироваться и как-то выйти к избирателю.
Поэтому он рекомендует переходный период до выборов. Такие практики известны в политической истории.
Так что насчет коалиции?
— Коалиция возникает только вокруг внятной цели. И эта цель не в свержении режима как такового. Это слишком общая задача. Эта цель должна быть прикладной. И она должна быть достижимой или хотя бы восприниматься как таковая. Что-то вокруг выборов? Возможно, если будет сформулирована общая цель. Например, мы выдвигаем общего кандидата, стремимся его зарегистрировать, насколько это возможно, когда и если нам отказывают, мы призываем наших избирателей, ну, например, приходить на избирательные участки и писать его имя на бюллетене. Или, принимая участие в электронном голосовании, тоже что-то делать.
То есть нужна инструментальная задача, вокруг которой может сложиться коалиция. «Давайте поменяем режим» — это не объединяющая задача. Это слишком невнятно.
А вот выборы, даже не демократические, — это такая процедура, в которых можно безопасно поучаствовать. По крайней мере, за голосование пока не бьют.
Дальше возникает тяжелый вопрос, который каждый должен решить для себя, и я боюсь, что никакая верховная инстанция нам не поможет. Можно ли пытаться изобрести какую-то технологию непосредственного или опосредованного участия в этой процедуре, которая принесет пользу? Я, вы знаете, всегда апостол участия. Я считаю, что всегда надо тренировать гражданскую мускулатуру.
Но с этими выборами у меня есть сомнения. Выборы 2024 года имеют одной из своих основных целей — легитимизацию так называемых новых территорий. Они будут проходить на этих воображаемых территориях, на них будут голосовать эти воображаемые избиратели. Это будет продаваться как признак того, что теперь они, так сказать, «настоящие россияне». Вот, смотрите, они проголосовали, они поддержали инкумбента (действующей представитель власти, который участвует в выборах. — Прим. «Холода») нашего, вот он теперь их президент тоже.
Все, что связано с этими злосчастными территориями, — это материя чистого зла. Уже теоретически и практически понятно, что там нельзя сделать ничего хорошего. Кто бы туда ни ехал с какими бы целями, даже теми, которые кажутся им благими, просто соучаствуют в этом зле и больше ничего: никому не помогает, никого не спасает, ничего не делает лучше — только прикасается к этой материи смерти.
И вот мои тягостные размышления: эти выборы настолько пропитаны этой материей смерти, что с ними нельзя иметь вообще ничего общего или все-таки нет? У меня нет ответа на этот вопрос.
Это какие-то не похожие на вас поэтически терзания. Что значит «пропитаны»? Так можно сказать, что вся наша жизнь пропитана этой войной.
— Согласна. Я выражаюсь в таких метафорических терминах именно потому, что я еще не пришла ни к какому выводу. Когда приду, то я это сформулирую, так сказать, рациональным образом. Пока это только размышления. Но, опять же, представьте себе тех людей, которые ездят играть спектакли в мариупольском театре, или на стройку, или электросварщиками. Мы все чувствуем интуитивно, что не надо там появляться вообще. Чувствуем, да?
Чувствуем.
— Объяснять можем по-разному: можем через материю легитимности, политологическим образом: — что там все незаконно, нас, граждан Российской Федерации, там быть не должно. А можем поэтически: на костях плясать, и дома строить, и спектакли играть — нехорошо, неправильно, безнравственно. Почему-то даже те, кто возят туда теплые одеяла, все равно оказываются причастны к этому всему, потому что ты не можешь привезти туда теплое одеяло без согласия оккупационной администрации. Следовательно, ты вступаешь с ней в отношения.
Тут тоже много пограничных кейсов: вывозить людей вроде хорошо, а завозить — нехорошо. Где граница ада проходит? Задача поглощения или демонстрация поглощения завоеванных, или считающихся завоеванными, территорий делает всю эту процедуру выборов куда более, скажем так, зловещей, чем все предыдущие. Дело уже не в том, что эти выборы несвободные, проводятся при репрессивном законодательстве, что на них не допускают никого, что на них нет конкуренции. Это все, что называется, проблема вчерашнего дня. Сейчас мы находимся в другой, гораздо худшей ситуации.
Меня этот момент сильно занимает. Мне кажется, это новая ситуация по сравнению с предыдущими. Но вот коллега [политолог Кирилл] Рогов формулирует это следующим образом: то, что он называет в хорошем смысле «игровой политикой 2010-х», когда возможно было изобретать такие комбинации, как «Умное голосование», следовательно, добиваться определенного результата, прервано войной, по его мнению. Сейчас я его цитирую.
Дальнейшее политическое участие возможно только с некоторой моральной, а не технологической позиции. Что-то в этом есть, надо признать. Призыв поиграть в игру, проголосовать «за любого кроме» — я не уверена, что это отзовется в сердцах граждан.
С точки зрения политической истории мы с вами находимся в финале долгого правления: персоналия сидит больше 20 лет. Финалы таких правлений имеют определенные признаки. У позднего Сталина, позднего Франко, позднего Николая I — довольно много общего. Мало у кого случается размягчение политики, размягчение мозгов. Довольно часто начинается повторная репрессивная волна. Но что меня удивляет в нашем с вами случае? Обычно эти, так сказать, закаты звезды эстетически оформляются в окаменелом имперском стиле. Поздний Франко, поздний Сталин, Николай I времен крымской кампании — все были торжественными идолами. А у нас какая-то грязная шутка — основной стиль власти. Странным образом власть манифестирует себя публично через стилистику похабности, мерзкой шутки, подмигивания и хихикания. Через то, что они называют троллингом, — потоки непристойностей. Этот стиль также называется Dirty Old Man — грязный старикашка, а не Кощей Бессмертный.
К чему я это вам рассказываю? Мне кажется, что противостояние этому невозможно с такой же позиции троллинга. Никто со стороны власти или из всего лагеря лоялистов не выступает с позиций высокого достоинства. То есть эстетическая категория возвышенного никем из них не задействуется. Единственные, кто пытается это делать, — два полоумных старца Дугин и Проханов. Но они оперируют исключительно эстетикой некрофилии. Некоторым нравится, но не всем. Нельзя сказать, что даже как девиация это может быть особенно популярно. Понимаете, к чему я клоню, да?

Лучше уточните.
— Хорошо. «Умное голосование» при всем уважении к нему — это игра. У нас нет выбора, но мы хотим поучаствовать. Давайте проголосуем не за этих сволочей, а за других сволочей. Давайте поиграем в конкуренцию, а потом, как было в 2011 году, придем и защитим свой выбор с остроумным плакатом. Тогда это было хорошо и правильно. Это был язык того класса, который требовал перемен. Мы сейчас в гораздо более темном историческом этапе. Если мы с вами забрели в такое болото с такой властью, то странно противостоять ей с платформы какой-то игровой технологии. Для того чтобы говорить в этот момент, нужен другой язык.
У нас нет, к сожалению, никакого, прости господи, национального святого, который может выйти и сказать, так жить нельзя, так вести себя нельзя. Мы его как-то не родили пока.
Я вам никаких готовых инструментов не могу предложить. Но я хочу обозначить проблему. Проблема наша, скажем так, не политтехнологическая, а политико-этическая. Потому что власть, с которой мы имеем дело, абсолютно безнравственна. Она не просто зажимает политические свободы — она массово убивает людей в другой стране. Это другой уровень проблем.
Возможно, инструменты предыдущего исторического этапа тут не будут эффективны. А возможно, будут. Над этим по крайней мере надо размышлять. Конечно, нам легче повторять то, что мы уже делали, — не выходить из зоны комфорта. Даже если это тяжело и рискованно, все равно это нечто уже знакомое. А если оно не работает уже?