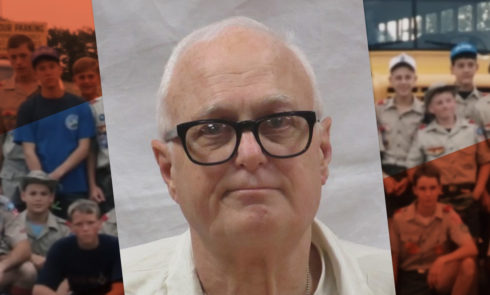В 2016 году 23-летняя Анастасия Бортникова публично рассказала о пережитых ей в детстве сексуальных домогательствах со стороны отца. Сейчас Анастасии 31 год, она живет в Швеции. Она рассказала «Холоду», как решение рассказать о насилии отразилось на ее жизни и отношениях с родственниками, как произошедшее повлияло на ее личную жизнь и что она думает о своем отце сейчас.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Я уже год живу в Швеции и периодически посещаю языковые курсы. Темой одного из занятий был секспросвет в школах. Обсуждение было бурным. Один парень, швед, сказал, что это слишком политизированная тема, а потому для школ не очень подходит. Другой, турок лет 20, заявил, что из-за таких уроков дети становятся геями и меняют свой гендер, а потом во взрослой жизни жалеют об этом.
Меня задели его слова, и я сказала: «My father raped me when I was eight» («Мой отец изнасиловал меня, когда мне было восемь»). Наверное, raped — не совсем корректный глагол, потому что это было не изнасилование, а сексуализированное насилие. Но все же. Я сказала, что, если бы в моей школе были такие уроки, на которых объясняли бы, что мое тело важно и никто не вправе прикасаться к нему без разрешения, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе.
Тот парень выразил сожаление, что мне пришлось пройти через это, однако своего мнения не поменял.
Я ни разу не пожалела, что стала говорить о пережитом в детстве публично. В каком-то смысле тот пост в фейсбуке был частью моей терапии. Тогда историй о насилии в сети было не так много, и мне хотелось, чтобы люди, которые пережили подобное, знали, что они не одни.
После поста в фейсбуке отец прислал мне в личные сообщения цитату из какой-то книги: «Люди никогда не меняются к лучшему через ненависть, осуждение или приговор. Мы меняемся через прощение, любовь и веру в собственные силы». Он так ни разу и не извинился. До того как я сделала эту историю публичной, в переписке я коротко рассказала маме о том, что произошло со мной в детстве, и попросила поговорить о личных границах и сексуальном насилии с младшей сестрой, которой тогда было лет 11. Мамину реакцию я не совсем поняла, но она мне поверила. Больше мы этой темы не касались.
Потом я рассказала обо всем в Wonderzine. Еще до публикации я между делом сказала знакомой, что отправила в СМИ текст про сексуальное насилие в семье. Она, не дослушав меня, ответила, что в ситуации с насилием всегда нужно опрашивать обе стороны. Меня это задело, и я не стала уточнять, что пережила насилие в детстве. Когда же я опубликовала ссылку на текст в соцсетях, она извинилась и сказала, что не пыталась меня в чем-то обвинить.
После выхода статьи мне писали девушки, которые пережили нечто похожее. К сожалению, у меня не было сил ответить им всем.
Вскоре мне написал муж одной из моих родственниц. Он был «сильно поражен» моим поступком и не понимал, зачем я рассказала свою историю в СМИ. «То, что ты не обратилась к кому-то из близких, мне кажется, большая ошибка, а теперь это больше похоже на долго вынашиваемую месть. <...> Твои родители — преподаватели, и я даже представить не могу, как может это интервью отразиться на их карьере и всей жизни. <...> В этом мире все равно нет никого ближе родных людей».
Я ответила, что это его не касается. Мне было очень неприятно, что он не видит в насилии над ребенком ничего страшного и больше переживает за карьеру моего отца. Отец, если я не ошибаюсь, тогда преподавал физику в колледже.
Однажды речь о насилии в семье зашла на работе. Я рассказала, что мой отец был патриархальным воцерковленным человеком, который пил, бил детей и домогался меня. Одна из коллег потом сказала, что родителям виднее, как воспитывать собственных детей, что, возможно, такое поведение моего отца было проявлением любви, просто он не знал, как выразить ее по-другому.
Отец мечтал жить по «Домострою», он всегда и все решал за нас. Даже одежду мы могли купить только после его одобрения. Отец считал нас своей собственностью, говорил: «До свадьбы каждая женщина принадлежит своему отцу, после — мужу». Все дома ходили перед ним на цыпочках. И ни о каком личном пространстве речи не шло.
Конечно, патриархальный уклад в семье, физическое и сексуальное насилие в детстве не могли не отразиться на мне во взрослой жизни.
В 16 лет я уехала учиться в Петербург. Там у меня появились первые друзья. Я училась взаимодействовать с людьми, но совершенно не чувствовала собственных границ. Помню, как-то на вечеринке рядом со мной сел парень и начал гладить меня по щеке. Я думала, что это нормально. Потом меня подозвала подруга и сказала, что, если мне это неприятно, всегда можно сказать «нет». После этого случая я стала внимательнее относиться к себе.
В 17 лет у меня появился парень. Мы встречались редко, он не был заинтересован в серьезных отношениях, вел себя дружелюбно, но держал дистанцию. А я растворялась в нем. Это связь длилась несколько лет. Когда эти отношения завершились, я начала встречаться с людьми, чтобы исследовать свою сексуальность: из-за православного воспитания я долгое время отрицала свою сексульность, считала ее греховной.
А еще стеснялась своего тела, потому что считала себя некрасивой: в детстве отец сказал, что у меня несимметричная грудь.
Со временем я научилась принимать себя и выстраивать личные границы.
В 2018 году я познакомилась со своим будущим мужем — это были мои вторые серьезные отношения. Он швед, приезжал в Москву на чемпионат мира по футболу и остановился у меня — в то время я занималась каучсерфингом. В ноябре того же года он приехал ко мне снова. Все вечера мы проводили за разговорами, а после — общались в соцсетях. У нас оказалось много общих интересов. В сентябре 2021 года он переехал ко мне. Но прожили мы в Москве недолго: после начала войны уехали в Грузию, потом в Финляндию. Сейчас живем в Швеции.
Когда мы с мужем только познакомились, мне показалось, что он больший феминист, чем я. Он говорит, что женщины должны сами решать, как им жить. Из-за другого культурного бэкграунда муж более открыт в вопросах секса и не стесняется спрашивать, обсуждать, что нравится, а что нет. Помню, раньше я стеснялась менструаций, а он сказал, что не стоит переживать, ведь это совершенно естественный процесс.
Вообще мне очень нравится подход и отношение к детям в Швеции. Тут еще в младших классах объясняют им устройство демократии и важность активного участия в общественной жизни. И сексуальное образование вполне вписывается в эту парадигму. Дети с ранних лет самостоятельно ходят в душ, понимают личные границы, умеют говорить «нет», чтобы оградить себя от нежелательных прикосновений, знают, что могут быть кем хотят и с кем хотят.
В прошлом году апелляционный суд Западной Швеции отменил обвинительный приговор и отправил на новое рассмотрение дело об изнасиловании 10-летней девочки. Ребенок рассказывал, что мужчина трогал ее snippa — сленговое словечко, которым шведские дети называют женские гениталии. Суд не был уверен, что именно имела в виду девочка — так называют и влагалище, и вульву, — а от этого зависела квалификация дела (изнасилование = проникновение). Был жуткий скандал, женщины писали посты с хештегом #JagVetVadEnSnippaÄr — «я знаю, что такое сниппа». При повторном рассмотрении дела суд снова признал мужчину виновным.
Муж знает о том, что произошло со мной в детстве. Он сказал, что лучше иметь доброго и любящего отца — даже если его уже давно нет на свете, — чем ужасного, который жив, но которого ненавидишь. Его отец умер 15 лет назад, и муж очень по нему скучает.
В 2020 году умерла моя младшая сестра. Мы с мужем поехали на похороны. Это была моя первая за несколько лет встреча с семьей. Остановились у мамы. Она на тот момент уже развелась с отцом (развод не связан с моей историей). Отец был на похоронах, но я не подходила к нему и не смотрела в его сторону. Потом он написал маме, что приглашает меня с мужем на встречу, что хочет «примириться». Но я сказала маме, что никуда не пойду.
Я вообще не хочу о нем слышать — хочу, чтобы его просто не было в моей жизни. А мать до сих пор относится к отцу не так осуждающе, как мне бы хотелось. Она может между делом сказать, что вот на Новый год отец был один, но брат сходил, проведал его, какой молодец! Я чувствую дискомфорт всякий раз, как она упоминает об отце.
Однако за эти годы мое мнение о нем изменилось. Если раньше я считала отца педофилом, то сейчас мне кажется, что он просто видел во мне объект для удовлетворения своих потребностей, а не человека, ребенка. «Жена уехала, мне одиноко, почему бы не взять какой-то объект и не помастурбировать им». Тут дело не в том, что я была ребенком, а в том, что он считал меня своей собственностью, с которой можно делать все что захочется.
О жизни отца я почти ничего не знаю. Он удалил свой аккаунт во «Вконтакте», возможно, из-за статьи в СМИ. Но с уверенностью сказать не могу.
Из двух младших братьев общаюсь только с одним. Он переехал в Петербург. Я коротко рассказывала ему свою историю, но он никак не отреагировал — мне кажется, он просто не знал, как правильно реагировать на такое. Другой брат остался в родном городе и живет очень замкнуто.

Хотя я уже не беспомощная девочка и могу строить свою жизнь как хочу, я не могу сказать, что до конца отпустила прошлое. Меня триггерят истории, связанные с насилием над детьми. Мне не нравится, когда в культуре отца и дочь ставят в какой-то сексуальный или романтический контекст: например, daddy issues, sugar daddy, какие-то связанные с этим кинки. Недавно мы с мужем готовили еду. По радио заиграла песня Fleetwood Mac «Oh Daddy». Ее текст показался мне настолько ужасным, что я попросила мужа переключить на что-то другое.
В 24 года я пошла в кино на фильм «Сплит». В самом конце там кратко показали сцену насилия родственника над маленькой девочкой — и это так сильно меня задело, что я вышла из кинотеатра, села на асфальт и зарыдала.
А еще я не хочу детей. Я не могу пригласить человека в этот мир, зная, что вокруг так много боли и страданий. Муж принял мой выбор, хотя и иногда говорит, что, возможно, в старости мы будем жалеть об этом. Впрочем, мы пришли к пониманию, что есть другие способы дарить любовь и заботу. Тем более что у нас много друзей с детьми, с которыми всегда можно пообщаться.