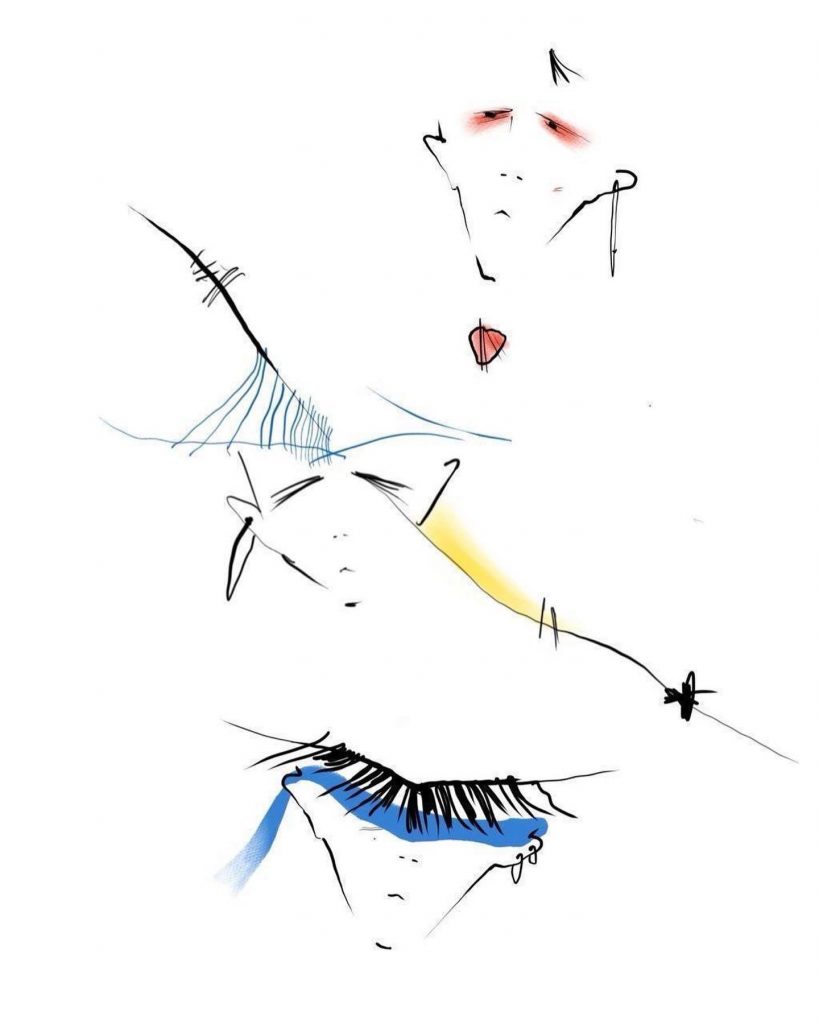30-летний режиссер Кантемир Балагов — самое яркое новое имя в российском кинематографе последних лет: его «Теснота» и «Дылда» получали призы на Каннском фестивале; Балагова позвали снимать первый эпизод сериала американской студии HBO по мотивам популярной видеоигры «The Last Of Us». После вторжения российских войск в Украину Балагов и его партнерка, режиссер Кира Коваленко уехали из России — сначала в Турцию, затем в Тбилиси, а оттуда в Лос-Анджелес. Таисия Бекбулатова поговорила с Балаговым о том, как изменилось его представление о самом себе, России и людях после начала войны.
Вы что-то снимаете сейчас?
— Нет, мы ищем через агента какие-то проекты. Много встреч. Тут все настолько медленно устроено. Встречи есть — это уже хорошо, но они [собеседники] предлагают свои идеи, от которых ты не загораешься, — какой-то сериал про Карибский кризис... Это не мое. А пытаешься им свое запитчить — им это неинтересно.
Мы уехали в Штаты, потому что это единственная возможность для нас [с Кирой Коваленко] хоть как-то работать, зарабатывать себе на жизнь и помогать близким и родственникам материально. Я тут по туристической визе. Если не найдем никаких проектов, то придется возвращаться куда-то в Тбилиси, наверное, или в Ереван.
Мы хотим как-то реализовать имеющийся сценарий — «Моника». Мы с [продюсером] Александром Ефимовичем [Роднянским] буквально вчера об этом говорили. У нас есть идеи, надо просто сделать несколько усилий. Мы со [сценаристом] Мариной Степновой должны на следующей неделе созвониться и обсудить это все.
Расскажите про «Монику».
— Это была современная история про отца и сына в Нальчике, но понятно, что сейчас я не могу снимать в России, да и не хочу. Пока там это правительство, не хочу иметь ничего общего с этим. Я узнал, что в Нью-Джерси есть адыгская диаспора — изменив какие-то нюансы сценария, можно это перенести в Нью-Джерси.
Я сейчас сконцентрирован на «Монике», потому что мы потратили три года жизни на этот сценарий. Я долго думал: мои герои из «Моники» — они поддерживают войну или нет?
Это открытый вопрос? Вы не до конца понимаете своих героев?
— В случае с героями никогда не знаешь. Даже когда ты пишешь сценарий, они могут пойти в другую сторону, куда ты не ожидал. Но я думаю, что они бы не поддержали.
Эскизы для «Моники» рисовал очень талантливый парень из Одессы, Анатолий. Мы с ним периодически списываемся. Когда все начиналось, он был более спокоен. Когда начали бомбить Одессу — там уже и отчаяние, и злость на нас, и бессилие.
Есть ли у вас ощущение, что вы лишились родины?
— Чем дольше я нахожусь вне России, тем больше ощущение, что я на чужбине и что меня лишили родины. Наверное, отчасти я сам себя ее лишил. Но да, ощущения дома пока нет.
Некоторые сейчас сжигают свои российские паспорта. Вы не готовы поставить крест на России?
— Нет, я не готов. Мне даже кто-то предъявлял, что у меня татуировка: Грузия, Украина и Россия — и бело-синий флаг. Для меня это [флаг], в первую очередь, символ перемен. Не то, что надо уничтожить Россию старую и создать новую. В какой-то степени да, но не настолько прямолинейно, не до человеческих смертей.
Желания сменить гражданство у меня нет. На вопрос, откуда мы, мы всегда говорим — из России. У меня нет отказа от своей идентичности, у меня неприятие правительства.
Как реагируют, когда вы так говорите?
— Я не сталкивался ни разу ни в Тбилиси, ни в Штатах с русофобией. Просто спрашивали мнение [о происходящем].
Какие у вас ощущения от этой внезапной эмиграции? Чувствуете ли вы потерянность?
— Да, мы потеряны. Все, что я сейчас скажу, несравнимо с тем, что испытывают сейчас люди в Украине, все это мелочи. Но да, какая-то обездоленность. Мы пытаемся понять, что нам дальше делать и как жить. И как работать, потому что тут другая культура, другой менталитет, отношения.
Вы хотите снимать кино про Нальчик, про людей на Кавказе?
— На данном этапе с «Моникой» — да. А если не изменится ситуация в России, я буду вынужден снимать здесь — если получится, конечно. Буду снимать что-то про местных людей.
Все это настолько сложно, мы в какой-то непонятной серой зоне существуем. Будем пытаться сейчас сконцентрироваться на «Монике», а там, если этот кошмар не закончится, не знаю, что будем делать. Рекламу снимать, наверное, пойдем. Но это лучше, чем сериалы снимать, мне кажется.
А как же сериал «The Last of Us»? В России очень гордились, что вас позвали снимать первый эпизод.
— Игра «The Last of Us» занимает особое место в моем сердце, поэтому этот проект был важен для меня, и это был мой первый сериальный опыт. Исходя из него, я понимаю, что сейчас, имея финансовую нужду, будет быстрее и эффективнее снимать рекламу. Просто все очень долго — с момента, когда меня утвердили, до зарплаты прошло почти полгода.
[Сериал] еще снимают. Должны выпустить в начале следующего года.
В плане творчества сериалы вам не интересны?
— Если мне предложить историю, которая не умещается в форму кино, или мне самому что-то в голову придет, то, конечно, можно [снимать] и сериалы. И у той формы, и у той есть плюсы и минусы. Все зависит от истории. Но мне ближе кино пока.
Я пытаюсь понять и почувствовать сериалы, но дальше первых двух-трех серий не могу [смотреть]. Исключения — это «Сопрано», еще вот «Наследников» начал смотреть, зацепило. А, и еще «Офис» недавно посмотрели. И «Друзья». Ну то есть вы понимаете, мы сейчас где-то в начале 2000-х по сериальной шкале времени.
Вы говорили, что человек, который так или иначе относится к искусству, должен быть гражданином. Для вас быть гражданином сейчас — это что?
— Сложно сказать. Для меня быть гражданином — это действовать сейчас. Но я не имею права призывать к чему-то, потому что я в привилегированной ситуации. У меня была [финансовая] подушка, была возможность вместе с Кирой взять и покинуть страну — и за счет этого есть возможность высказываться. Я понимаю людей в России, которые сейчас окутаны страхом и не понимают, как дальше жить.
Действовать можно по-разному.
— Да, можно разговаривать со своими близкими. Я не раз сталкивался с ситуацией в своем кругу, когда родители не слышат детей.
У вас не было такого?
— Слава богу, нет.
Какую реакцию на происходящее вы встретили в своем окружении на Кавказе?
— У меня складывается ощущение, что большинство, которое поддерживает войну, — это не боты, а реальные люди. Раньше я думал, что не может такого быть. Когда началась война, я был уверен, что можно на это повлиять, что через несколько дней это закончится. Но, когда я начал видеть эти свастики (буквы Z — прим. «Холода») на здании Кабардино-Балкарского университета, я понял, что что-то страшное происходит, какой-то перелом.
И мне потом люди из Нальчика, кто против войны, — молодые студенты, студентки — писали, что их насильно загоняли на площадь, чтобы [выступать с лозунгом] «Своих не бросаем». Это очень страшно. И у меня такое ощущение, — по крайней мере, я с этим сталкивался, — что в отношении Кавказа к Украине есть еще вопрос религии. «Какое нам дело до христиан, когда мы мусульмане, когда палестинцев убивают». Лучше будем обращать на это внимание, чем на то, что собственная страна убивает невинных людей.

Возможно, люди на Кавказе зачастую не мыслят об этом в таких категориях, не ассоциируют себя с российским государством?
— Возможно. Но для меня было удивительным другое. Что люди, которые радикально относились к России в целом и выступали за отсоединение Кабардино-Балкарии, сейчас поддерживают эту войну. Для меня непонятно это переобувание в воздухе. Эта война когда-нибудь закончится — и я не понимаю, что будет с Северным Кавказом, останется ли он частью России?
Вы думаете, что эта война может стать неким детонатором?
— Я думаю, да. Я думаю, эта ситуация не сплотит народы Кавказа, и это повлечет за собой какие-то очень страшные последствия.
Уже есть радикалы, которые выступают за отсоединение от РФ. Мне кажется, что это будет усиливаться. Сейчас люди будут очень сильно ощущать последствия санкций. Люди в регионах пока мало это чувствуют: жили в бедности и сейчас будут жить. С помощью бедности можно легко контролировать страну. Какое-то время на Кавказе будет относительно тихо, а потом у людей кончится терпение.
А у вас какая позиция?
— До войны я считал, что, если Кабардино-Балкария отсоединится от РФ, то она сама себя начнет пожирать. Но сейчас, когда я увидел эти имперские амбиции и всю эту supremacy, которую я все время чувствовал на Кавказе, — что от кавказцев по отношению к русским, что от русских по отношению к кавказцам… Это расовое превосходство, национализм всегда был. А сейчас он настолько ярко проявляется, что у меня пока нет ответа на ваш вопрос. До войны я был категорически против, а сейчас я не знаю.
Нетерпимости стало больше?
— Да. Война как будто показала то, что было скрыто. Не то, что этого не было, — оно было, но в каком-то скрытом состоянии. А сейчас это настолько явно!
А что вы имели в виду, когда сказали, что республика будет пожирать сама себя?
— Республика утонет в коррупции, еще сильнее будут все решать семейные связи. Человек, который родился без связей, ни на что не сможет рассчитывать. В принципе, то же самое, что сейчас, — но в удвоенном, утроенном виде. По моим ощущениям, это станет мусульманской республикой. Я сравниваю свое детство и сейчас, — сейчас очень много мусульман. Это не плохо, не хорошо, это просто факт.
Как вам кажется, с чем это связано?
— Отчасти это связано с бедностью и с тем, что молодежь просто не занята. Нет абсолютно никакого досуга. Мы приезжали готовиться к «Монике», искать людей — нечем заняться. В кинотеатре два-три фильма в прокате и все.
Сейчас как-то потихонечку люди уезжают из Нальчика. Нет возможности себя реализовать, зарабатывать на жизнь. Зарплаты в Кабардино-Балкарии очень маленькие: 5 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, 3 тысячи рублей.
Я сам был в такой ситуации, когда я почти начал молиться. Это все исходит из этой неприкаянности, одиночества. У кого-то это происходит от бедности. Ты просто ищешь утешения в чем-то. И так происходит, что ты находишь его в религии. Но есть люди, которые потом используют эту религию против тебя.
Когда с вами это происходило?
— Это было, когда случилось 13 октября (вооруженное нападение боевиков на силовые объекты в Нальчике 13-14 октября 2005 года. Погибли 37 силовиков и 15 мирных жителей. — Прим. «Холода»). Я сказал родителям, что я хочу молиться. Отчасти это было связано с тем, что мои друзья молились, это тоже повлияло на меня. Но мои родители были против, и сейчас я им благодарен. Потому что я не знаю, как бы моя судьба повернулась, если бы я начал молиться.
Почему они были против?
— Они боялись, что меня заберут в лес, я буду жить там и бегать с автоматом. Они кабардинцы, и мама, и папа. Мама — учитель химии, у отца маленький магазинчик строительных материалов в Александровке. Но я кабардинского не знаю, потому что со мной мало в детстве говорили. А это тяжелый язык, чтобы начинать его теперь учить.
У нас [с Кирой] такие планы были, мы хотели переезжать из Москвы обратно в Нальчик. Мы в январе полетели туда искать себе жилье, нашли. Мы по сути закончили [сценарий] «Моники» и думали: подготовка, съемки, монтаж — это займет год-полтора. Хотели переехать, быть ближе к своим людям. Думали, что будем вдохновляться другими историями и так далее.
Потом нашелся человек, который захотел выкупить кинотеатр «Победа» и сделать из него пространство для молодежи, где могут проходить выставки, лекции, кино. Было много планов. И вот 24 февраля все это [рухнуло].
Вы всегда так тянулись к корням?
— Это все со временем приходило. Раньше, когда мы 24 года жили в Нальчике, конечно, мы хотели уехать и жить в Питере, в Москве. А когда живешь в Питере или в Москве, ты понимаешь, что твоя профессия и жизнь не зависит от этих городов, и начинаешь тянуться домой.
Когда мы приезжали, мы настолько были вдохновлены, там настолько прекрасные люди. Но когда ты видишь человека, который тебе был приятен, а он поддерживает войну — в этот момент обрушивается все.
Вы вините в этом пропаганду или что-то другое?
— Конечно, мне хочется верить, что это результат пропаганды, я не хочу верить в то, что человек сам по себе может поддерживать такой кошмар. Я не хочу верить в то, что 24 года жил среди людей, которые настолько искренне хотят смерти другим людям. И из-за чего — абсолютно непонятно, никто не может этого объяснить.
Вы говорили, что люди искусства несут ответственность и за социальные процессы. Кажется ли вам, что в нападении России на Украину есть доля ответственности людей искусства? Если да, то в чем она?
— Это очень индивидуально. Например, режиссер фильма «Т-34» [Алексей Сидоров], который говорит со сцены, получая награду, что он очень благодарен оружию, которое его вдохновило на этот фильм… Наверное, это инспирировало кого-то на что-то.
Когда [война] началась, я говорил, что все мы виноваты. Сейчас, поостыв от всего, я уже так не думаю. Но я, скорее всего, виноват, что я позволил 20 лет одному человеку править своей страной. Как бы я мог на это повлиять, не знаю. Но мне 30 лет, и до этого я политикой вообще как-то не интересовался. А сейчас понимаю, что игнорировать ее и глупо, и опасно.
Вы не выходили на пикеты, митинги?
— Мы выходили в 2019 году, когда на площади Сахарова разрешили провести митинг (имеется в виду митинг 10 августа в поддержку заключенных по так называемому «Московскому делу» — Прим. «Холода»). Опыт был странный, я не понял до конца… Я переживал, как я могу себя повести в большом скоплении народа. Это такая страшная сила, ты не понимаешь, куда ее может понести и тебя вместе с ней. На это я обратил внимание. Ну и были люди, которые правда переживали, а были люди, которые пришли сделать фоточки в инстаграм.
Из-за чего вы переживали?
— Что начнутся задержания резкие, и как большое количество людей себя поведет и как ты сам себя поведешь в этом скоплении — абсолютно непонятно. Такая дикая энергия. Она и во благо, но может обрести также очень стремные очертания.
Вы упомянули российский империализм. Видели ли вы задачей своего кино борьбу с ним?
— Как сверхзадачу если [только]. Искусство — оно… Сейчас очень пошло скажу, но оно не делится на категории религии, национальности. Это что-то общечеловеческое. Я думаю, что сама мастерская Сокурова (Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете — Прим. «Холода») — это была такая миссия по децентрализации киношной индустрии, потому что все кино находилось в Москве. И второе — это борьба с империализмом. Сокуров учил нас, чтобы мы не боялись снимать про свой регион, про своих людей, показывать миру, какие мы. Потому что никто не знал и не знает, как мы живем, в чем мы похожи, в чем мы различны. Это в нас засело.
Я, когда снимал «Дылду», посмотрел какой-то материал Киры и подумал — как же я хочу [снова] снимать про людей с Кавказа. Я отчетливо понял, что моя основная задача — снимать про этот регион и его историю.
Вы вспомнили, как видели в Нальчике слоняющихся без дела молодых людей. Вам не кажется, что вы сами могли бы быть одним из них, если бы не везение?
— Абсолютно. Я родился в не самом благополучном районе Александровка, это такой типичный провинциальный район. Я помню, что мы делали. Ни одной книги до мастерской я не читал. Нет, я прочел одну книгу — это Пауло Коэльо «Вероника решает умереть», мне показалось, что это хорошая книга (смеется).
Я уверен, что, если бы не мастерская, если бы не отец, который купил мне фотоаппарат, видео с которого я впоследствии показал Сокурову, ничего бы этого не было. Может быть, я даже поддерживал бы эту войну, если бы не все это.
То есть способность фильтровать пропаганду — это некая привилегия?
— Это вопрос культуры. Проблемы Кавказа связаны с бескультурьем. С отсутствием образования, нежеланием образовываться самому. Этот менталитет пацанский, девчачий — «Я и так все знаю» или «В интернете поищу» — это от плохого образования. Я вспоминаю себя — я был очень плохо образован, я и сейчас плохо образован. Но когда ты начинаешь просто читать литературу, военную литературу, ты понимаешь, что сейчас происходит кошмар. Человеческого объяснения этому не может быть.
Я видела, что вы провели параллель между нападением на Украину и русско-кавказской войной XIX века. Как вам кажется, нужна ли сейчас актуализация этой темы?
— Мне кажется, что проблема в том, что эти темы не были проговорены до конца откровенно и без прикрас. Не была проговорена чеченская война, не была проговорена русско-кавказская война, не были проговорены «Норд-Ост», Беслан. Никто не понимает, что произошло. Есть теории, и какая-то из них считается правдивой.
Проговаривание таких тем как раз уменьшает шансы на то, что сейчас происходит, на этот кошмар. Их надо проговаривать, особенно сейчас. Не с целью разрушить Российскую Федерацию, а чтобы достучаться до самого себя. В первую очередь это обращено к людям, которые скорбят и чтят память адыгов, [погибших в русско-кавказской войне], но при этом поддерживают эту войну. Как это вяжется одно с другим, я не понимаю.
Многие люди сейчас стали публично говорить о дискриминации и национализме в России в ответ на заявления властей про нацизм в Украине. Сталкивались ли вы с этим?
— Если мы говорим на бытовом уровне, — «хач», не «хач», — сталкивался. Но это не было чересчур агрессивно, не нанесло мне травму.
Бытовой национализм есть и со стороны русских, и со стороны кавказцев. Это обоюдно.
Но масштаб разный.
— Конечно, сколько русских живет в России — и сколько кабардинцев, дагестанцев, осетин, балкарцев? Масштаб несопоставим.
Мне кажется, у вас была амбиция, чтобы вас ценили на Северном Кавказе, а не только в Москве. Она реализована?
— У меня не было такой амбиции никогда. Это, конечно, приятно, когда тебя на родине ценят… С «Теснотой» было много скандалов. Я дал интервью, у меня спросили: «Чувствуете ли вы себя кабардинцем», — и я ответил, что не чувствую. Типа национальность — это не то, чем ты можешь гордиться, это от тебя вообще не зависит. После этого началось такое…
Амбиции такой у меня не было. Это как у Балабанова — «найти своих и успокоиться». Я в поисках своих людей.
Вы не передумали с тех пор насчет кабардинской идентичности?
— Сейчас да. После того, что произошло, я уже не могу такое сказать. Это было до войны, а сейчас момент такой, что — так, стоп, надо самоопределиться. «Человек мира» — красиво звучит, но это не работает, когда такое происходит.
Теперь вы определяете себя как кабардинец?
— Да. Я всегда об этом говорил, когда меня спрашивали именно про национальность. Просто я не говорю на кабардинском, не думаю на кабардинском, не читаю на кабардинском. И «чувствовать» — это что-то очень эмоциональное… Сейчас я думаю, что надо в этом копаться, обсуждать это все. Потому что иначе есть «русские» и «нерусские».
В твиттере вы написали, что у России женское лицо. Это был день, когда была акция Марины Овсянниковой. Но это можно трактовать шире?
— Это намного шире! Большое количество дел, направленных против войны, поддержка беженцев, и финансовая, и психологическая, выступления, протесты — все это связано с женщинами сейчас. Видимо, только женщины знают цену жизни. И поэтому у них есть эта храбрость, которой нет у мужчин. Например, то, что делает [петербургская феминистка и активистка] Леля Нордик и Феминистское антивоенное сообщество, — я даже не могу описать, насколько это круто и важно. Я даже не представляю себе, с какими трудностями они сталкиваются. У России женское лицо. У будущей России женское лицо.
Это довольно нетипичное для кавказского мужчины видение мира. Вас так воспитывали, или вы уже во взрослом возрасте стали так мыслить?
— Мне кажется, это связано с тем, что у меня родители разведены и большую часть своей жизни я жил с мамой и сестрой. Поэтому корни оттуда.
Я и с отцом прекрасно общаюсь, просто я жил с матерью, я не мог ее оставить. Эта мягкость, которая есть во мне как в человеке, исходит от матери моей, мне кажется. Это просто как-то откладывается, это что-то бессознательное. Я не могу это объяснить. Я просто смотрел на нее, на сестру, видел отношение к ним, несправедливость, с которой они сталкиваются, и это как-то формировало меня.
Но я это понял не в раннем возрасте. [Сыграли свою роль] правильные книги, которые нам давал Сокуров читать. Потому что я помню, как я в первый раз прочел «Госпожу Бовари», и мое мнение было одно, — а спустя время, после учебы, я понял, что это очень трагичный персонаж.
Что вы в ней увидели?
— Сначала я увидел, что женщине стало скучно. Это очень поверхностно, мне даже стыдно про это говорить. А потом я понял, что это история про несчастного человека. И мне это показалось интересным — ты берешь и пытаешься оправдать то, что зритель с первого импульса будет осуждать. Можно показать зрителю, что у этого есть человеческая сторона, не так все просто.

Ваша карьера началась с определения вас как ученика Сокурова. Кого бы вы назвали авторитетом для себя сейчас?
— Сокуров — по-прежнему мой учитель, мы с ним переписываемся. Я очень переживаю за него. Ему предлагали покинуть Россию, я просил его согласиться. Но он отказывается. Сокуров — это мой ориентир в плане мудрости и человечности. Насколько спокойно он держится в таких страшных условиях — это только восхищает.
Еще для меня авторитет — мои родители.
В вашем кино как будто нет абсолютного зла, вы всех пытаетесь показать людьми. Сможете ли вы сохранить этот гуманизм после Бучи?
— Не знаю. Сложно найти что-то человеческое в людях, которые совершили эти зверства в Буче. Потому что когда ты рассуждаешь о кино и о книгах, ты всегда говоришь про полутона и оттенки. А на войне как будто есть черное и есть белое. На мой взгляд, россияне, русские потеряли право снимать про Великую Отечественную войну.
То есть вы не стали бы сейчас снимать «Дылду»?
— Да, это опять все индивидуально, но, на мой взгляд, режиссеры с российским гражданством не имеют такого права. У меня была идея снять про историю бегемота во время блокады Ленинграда — как весь Ленинград спасал этого бегемота и как его в итоге спасли. Я загорелся — это такая человеческая история и какой-то новый взгляд на блокаду. Но сейчас я понимаю, что я не имею права это снимать.
Даже учитывая, что вы против?
— От этого образы на экране не станут убедительнее для меня же самого.
Ваше кино изменится из-за войны?
— Наверное. Сложно сейчас сказать. Я считаю, что миру нужен будет неореализм, как это было с фильмами «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане». Какое-то чудо нужно.
Вы называли себя очень амбициозным человеком. Так ли это теперь — и в чем ваша амбиция на данный момент?
— Сейчас время не для амбиций. Они ушли на второй и даже на третий план. Сейчас хочется делать кино. Я всегда говорю, что, на мой взгляд, кино не может ни на что повлиять, оно не может ничего изменить. И нынешний опыт показывает, что, правда, сколько бы фильмов про гуманизм, про гуманитарные катастрофы ты не снимал, все равно найдется человек, который это оправдает.
Но сейчас я понимаю — все равно надо делать такое кино, которое может это предотвратить. Иначе для чего это? Такой парадокс. Сейчас я уверен, что кино должно засесть в человеке и что-то там внутри покрутить.
Помогает ли вам то, что вы сейчас вдвоем с Кирой?
— Да, очень сильно помогает. И то, что сейчас с нами наша собака. Он был с нашей подругой в Италии, потому что ты не можешь из России [в США] привезти собаку, это красная зона по паразитам, что-то такое. Только из Европы. Это такое облегчение, что сейчас собака с нами.
Планируете ли вы возвращаться в Россию?
— Если власть поменяется — и еще непонятно, на кого она поменяется, — то, конечно, мы бы хотели бы вернуться. Но не может же быть такого, что власть поменяется — и все эти люди, которые поддерживали войну, станут думать по-другому.
Многие вспоминают, как после войны проводилась работа с людьми в Германии — включая посещение концлагерей и так далее. Не кажется ли вам, что отчасти это задача и для кино — вернуть людей в реальность?
— Да, абсолютно согласен. Культура должна точно и беспристрастно работать на улучшение человека. Это работа, и это работа долгая. Потому что эти люди как-то появились.
У вас остается в России семья, вы чувствуете себя из-за этого связанным?
— Да, у меня там родители, сестра, брат. Конечно, это накладывает на меня дополнительную ответственность в плане высказываний. Когда это все начиналось, я выкладывал посты, и сестру начальство вызывало на ковер — «лучше бы брату помолчать». Отца предупреждали, что сыну лучше посидеть потише. Нальчик — город маленький, поэтому там все намного проще в плане угроз. Все друг друга знают.
У вас, наверное, странное ощущение — вы международно известный режиссер, а родственникам при этом угрожают мелкие местные шишки?
— Это ожидаемо, потому что я не пользовался особой популярностью у людей, которые в Нальчике занимают высокие посты. Пару раз даже министр культуры вставлял нам палки в колеса, чтобы мы какие-то вещи не снимали. Это абсолютно предсказуемо, вопрос разности менталитетов, поколений.
Молодое поколение менее агрессивное, более открытое к переменам. Оно видит, что сейчас много возможностей открыть себя миру. Но опять-таки, это не обустроено в городе, это больше самообразование — люди через интернет пытаются себя как-то занять. Если бы были какие-то центры досуга с лекциями каких-то выдающихся людей — в культуре, в литературе, в журналистике, это бы очень помогло. Потому что не у всех есть возможность уехать в Москву, в Ставрополь, в Краснодар. Это все большие деньги.
Вы говорили, что творчество растет из травмы.
— Я точно знаю, что после войны украинский кинематограф обретет невероятное количество прекрасных фильмов. Просто невероятное. Они выиграют во всех смыслах — не только в гражданском, но и в культурном.
Конечно, у России тоже будут прекрасные фильмы, но с чем они будут связаны, я пока не могу сказать.
Имеют ли россияне право снимать про войну с Украиной?
— Я думаю, да. Может быть. Если это будет мостом каким-то между двумя народами, то конечно. Кино обязано быть мостом.
Хотела спросить, можете ли вы назвать источник утешения для себя и своего поколения, но, кажется, у вас его нет.
— Я не знаю, правда. Хочется быть Екатериной Шульман — когда тебя слушают, и [появляется] надежда на прекрасное светлое будущее.
Но когда-то же все заканчивается. Это тоже должно когда-то закончиться.