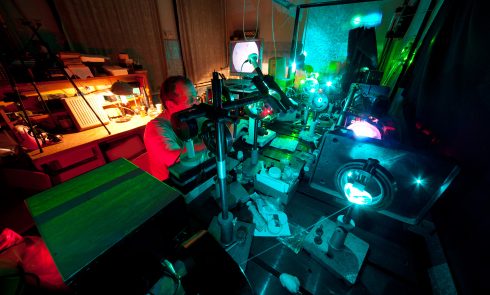Лечение родственников — обычная практика среди российских врачей. Это не регламентируется ни юридически, ни этически. Однако мало кто задумывается, что личные и профессиональные отношения могут конфликтовать, а неудачи в лечении родных могу плохо сказываться на самих медиках. «Холод» поговорил с врачами, родные которых умерли во время такого лечения, о том, как это повлияло на них.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
29-летняя Полина Шило — врач-онколог в санкт-петербургской клинике «Лахта» и программный директор «Высшей школы онкологии». О том, что ее мать Майя серьезно больна, она узнала в мае 2020 года. У той часто были головные боли, но они успешно купировались обычными таблетками и не вызывали опасений. Однако Полина насторожилась и настояла на МРТ, когда симптомы ухудшились.
Когда Полина увидела снимки, то сразу поняла, что это глиобластома — злокачественное образование в головном мозге, которое диагностируется редко (один случай на тысячу онкологических больных), но отличается агрессивным развитием.
«Там была огромная опухоль в теменной области с распадом внутри. Это был очень яркий момент — когда я увидела профиль любимого человека с вот этой штукой в голове, — голос Полины начинает дрожать. — Ужасное воспоминание, которое, наверное, навсегда останется со мной. Мне сразу было понятно, что шансов практически нет. Я знала, что мы сделаем все, что необходимо, но с первого взгляда я примерно понимала, когда и чем это кончится».
Прогнозы Полины сбылись. С момента получения снимков до смерти мамы, которой на тот момент было 49 лет, прошло 14 месяцев.
Сразу после МРТ Полина взяла ситуацию с лечением мамы в свои руки. Как она вспоминает, «подняла на уши всех знакомых нейрохирургов» и организовала госпитализацию мамы в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко в Москве — по ее словам, к одному из лучших врачей страны. «Было не до страданий, я просто эффективно решала вопросы», — говорит Полина.
Мамина операция прошла успешно, но через месяц после первого курса химиотерапии ей диагностировали тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) — острую закупорку жизненно важных кровеносных сосудов тромбом, попавшим в циркулирующую кровь. Это заболевание часто развивается у онкологических пациентов. Помимо этого, как говорит Полина, мама заразилась коронавирусом в реанимации, куда ее госпитализировали.
Несмотря на большое количество личных и рабочих проблем, Полина читала все заключения, оценивала ситуацию и принимала решения по поводу лечения мамы. «Я не могла пустить ситуацию на самотек и позволить кому-то все менеджерить вместо меня, — объясняет она. — Все врачи подключаются к лечению своих близких. Просто в несложных ситуациях это не так страшно. Например, если муж заболеет какой-нибудь простудой, ну, что, я сама не решу эту проблему? Решу. В таких простых случаях ты не так эмоционально вовлекаешься».
Эмоциональная нагрузка умножается на 10
Клинический психолог Ольга Сорина, которая работает с людьми помогающих профессий, отмечает, что работа врача в целом психологически тяжелая: общаясь с пациентом, он тратит не только интеллектуальные ресурсы, но и эмоциональные. «А когда мы говорим о лечении близких, то эта эмоциональная нагрузка умножается на 10, — говорит Сорина. — Врач перестает быть нейтральным и может принимать решения, неадекватные ситуации или брать на себя чрезмерную ответственность».
Член Международной ассоциации по общению в медицине, основательница школы навыков профессионального медицинского общения «СоОбщение», педиатр и врач паллиативной помощи Анна Сонькина-Дорман согласна: когда врач лечит своих родных, говорит она, ему тяжело объективно принимать решения и оценивать пожелания или страхи своего близкого.
«Ты теряешь рассудительность. В ответ на какие-то “неправильные” мысли близкого человека думаешь: “Блин, мы с тобой это миллион раз обсуждали, почему ты меня никогда не слушаешь”. Если у него какие-то страхи, размышляешь: “Господи, ну чего ты боишься, я же тебе помогу”», — говорит Сонькина-Дорман.
В отношениях «врач-пациент» каждый участник выполняет конкретную роль и несет определенную ответственность, объясняет Сорина. Это профессиональные отношения, а значит, они конечны. Когда же в них вмешивается личное, вся эта конструкция «плывет».
«В России принято решать свои медицинские проблемы через друга, брата, свата, по рекомендации. Если кто-то кому-то дал телефончик, значит, врач в любое время снимет трубку и будет разговаривать, считая, что он должен помочь, потому что это “свой человек”. А потом еще мама пациента позвонит и спросит, как он. А врачу вообще-то нельзя ничего говорить, потому что его связывает конфиденциальность. Но как он ей не скажет, если это, например, его тетя?» — приводит пример Сорина.
Когда врач лечит родственников, он гораздо острее воспринимает возможные неудачи или критику, продолжает Сорина. Это может сказаться на его профессиональной самооценке. Также осложняет ситуацию и история отношений с человеком, которого он лечит: даже если изначально все было хорошо, во время болезни близкий может стать неприятен в общении и капризен, и неблагодарность с его стороны или отказ от лечения будут восприниматься очень болезненно.
Ровно так и случилось у Полины. У них с мамой всегда были сложные отношения, а в период лечения все конфликты, по ее словам, «зацвели пышным цветом». «Обычно врачи говорят родственникам: “Извлеките максимум полезного и приятного из того времени, что у вас есть”. А у нас вообще ничего подобного не произошло — ни стадии принятия, ни каких-то откровенных разговоров. Вместо этого взаимное раздражение вырывалось из-под контроля, было смешение социальных ролей и изменение маминой личности из-за болезни», — говорит Полина.
Одна из причин, по которым врачи в России продолжают лечить своих близких, — недоверие к коллегам. Об этом говорит и Полина Шило: медики всегда подключаются к лечению своих близких, потому что система здравоохранения, по ее словам, «очень пестрая по качеству».
«Я не могу сказать, что у нас все ужасно. Но ты просто не знаешь, куда человек попадет, — объясняет Полина. — Если бы я не подключилась к лечению мамы, например, мне кажется, она бы и до операции не дожила. Я видела отношение к больным в городе, где жила мама. Что там происходит в поликлиниках — это жесть. Спокойно доверить близкого человека этой системе не получается, поэтому ты, как врач, начинаешь решать вопросики, искать знакомых врачей. Такое и с обычными пациентами происходит: ты направляешь, договариваешься, ищешь варианты».

Нельзя быть одновременно любящей дочерью и эффективным врачом
Через несколько месяцев после развития ТЭЛА у матери Полины случилось первое обострение рака. Она прошла лучевую терапию, и следующие четыре месяца все было хорошо: она проходила контрольные обследования и даже успела выйти на работу.
Но в мае 2021 года, когда Полина была на седьмом месяце беременности, состояние ее мамы резко ухудшилось. Полина перевезла ее в медицинский центр в Санкт-Петербурге. «Я надеялась, что успею родить и хотя бы показать ей ребенка», — вспоминает Полина. Не получилось. Мама умерла 4 августа 2021 года, а дочка Полины родилась 13-го.
«Даже здесь все вышло как-то наперекосяк, — говорит Полина. — Нет ощущения хоть минимальной завершенности».
Полина много думала об ошибках, которые она могла совершить как врач. Правильно ли были назначены препараты? Можно ли было раньше догадаться о рецидиве болезни? Тот ли она выбрала медицинский центр? «Каждые пару часов я находила новые аргументы, почему я виновата, почему я говно, почему неправа, — вспоминает Полина. — Это причиняло мне сильную боль первые полгода. Благодаря психотерапии мне удалось разобраться с чувствами, осознать, что я сделала все, что смогла. Острота эмоций спала, иначе я не знаю, как можно было бы с этим жить».
Сейчас Полина уверена, что неправильных медицинских решений она не приняла, но признает, что совместить в себе все социальные роли не смогла.
«Нельзя быть одновременно и любящей дочерью, и эффективным врачом — решалой вопросов, — говорит Полина. — А когда ты еще и беременная в первый раз, тебе хочется спокойненько сидеть, чтобы вокруг тебя все попрыгали, поухаживали за тобой. Вместо этого ты на себе таскаешь маму, сумки, зарабатываешь деньги. Наверное, я требовала от себя слишком многого. Но решать вопросы было больше некому: я у мамы единственная дочь, мужа у нее тоже не было».
Только государство имеет власть разрешать или запрещать
Российское законодательство не запрещает врачам лечить своих близких, говорит юрист по медицинским делам, руководитель компании Melegal Алина Чимбирева. На федеральном уровне в России действует Кодекс профессиональной этики врача, но и он не регламентирует лечение родных, а локальные этические кодексы (субъектов федерации или даже отдельных больниц) по сути дублируют положения федерального документа.
Однако вводить дополнительные запреты, считает Чимбирева, нужно с большой осторожностью, потому что российское здравоохранение и без того очень сильно зарегламентировано, а положения подзаконных актов часто «не сочетаются друг с другом и с реальностью».
Анна Сонькина-Дорман также считает, что лечение врачами своих близких нужно регулировать не законами, а этическими кодексами. Так, по ее словам, и происходит в странах, где медицинская деятельность регулируется профессиональным сообществом, а не государством: именно медицинские ассоциации и объединения принимают решения выдать врачу лицензию или отозвать ее, а также составляют этические кодексы, чтобы обозначить правила профессионального поведения.
«В Британии тебя могут вызвать представители твоего королевского колледжа и сказать, что у них есть свидетельства, что ты нарушаешь определенную норму этического кодекса. Врача не посадят в тюрьму, но встанет вопрос, может ли он быть членом профессионального сообщества, если систематически нарушает договор между обществом и профессионалами», — объясняет Сонькина-Дорман.
В России же всю медицинскую сферу контролирует государство, поэтому этические кодексы — это формальность. «Ты можешь руководствоваться этическим кодексом как внутренним стержнем просто потому, что ты так хочешь. Но фактически никакой силы у них нет, потому что только государство имеет власть разрешать или запрещать врачам работать и определять, как они должны работать», — добавляет она.
В некоторых странах этические кодексы для медицинских работников не формальность, а реальный механизм — например, в США. Согласно этическому кодексу Американской медицинской ассоциации (AMA) — одного из крупнейших объединений врачей и студентов-медиков в стране, — врачам не следует лечить самих себя и членов собственной семьи.
В документе сказано, что при лечении членов семьи личные чувства врача могут плохо повлиять на его медицинские решения, также повышается риск того, что врач начнет решать проблемы, которые выходят за рамки его опыта или подготовки. Помимо этого, врачи могут чувствовать себя обязанными ухаживать за членами семьи несмотря на возможный дискомфорт, который им это доставит.
Однако, согласно кодексу AMA, исключения из этого правила все же есть: например, чрезвычайные ситуации или такие условия, в которых медицинская помощь необходима, но нет другого врача. В таких случаях врачи должны оказывать медицинскую помощь себе или родным до тех пор, пока не станет доступен другой специалист. Также допустимо оказывать помощь своим родным, если проблема краткосрочная и незначительная.
В 2009 году года Медицинский совет штата Мэриленд начал расследование по жалобе на местного патологоанатома Фреда Гебхардта, который незаконно назначал и выписывал рецепты на лекарства семи своим родственникам и близким друзьям. В частности, с 2000 по 2007 год он выписывал лекарства своей жене, в том числе сильнодействующие анальгетики, транквилизаторы, снотворное, антибиотики. В 2004 году ей диагностировали рак, и, когда у нее заканчивались обезболивающие или она не могла поехать в город к врачу, Гебхард сам выписывал ей мышечные релаксанты и сильнодействующие обезболивающие. В 2007 году она умерла.
В апреле 2012 года Медицинский совет штата Мэриленд вынес Гебхарду выговор и установил ему испытательный срок на два года. За это время Гебхард должен был, среди прочего, пройти курс по медицинской этике. За нарушение предписаний ему могли назначить новый испытательный срок, сделать выговор или выписать штраф, либо приостановить его лицензию.
В руководстве Good medical practice для британских врачей нет строгого запрета на оказание медицинской помощи себе и своим близким, но рекомендуется по возможности избегать этого. В Кодексе медицинской этики для врачей Франции довольно подробно регламентированы взаимоотношения врачей и пациентов, но прямых запретов или рекомендаций, которые запрещали бы медикам лечить своих близких, нет. Однако есть пункт (R4127-105), согласно которому врач не должен становиться экспертом качества медпомощи (специалист, который проводит плановые экспертизы качества медицинской помощи и работает с жалобами граждан), если это затрагивает его собственные интересы, интересы одного из его пациентов, родственников, друзей или группы людей, которая обычно пользуется его услугами.
Израильский кодекс медицинской этики также прямо не запрещает врачам лечить своих близких, но говорит о том, что врач должен принимать независимые суждения и избегать личных, экономических или иных конфликтов интересов.
Если ты врач, ты должен подключиться и лечить
Татьяна Иванюта — акушер-гинеколог, но, как она говорит, уже привыкла разбираться с любыми вопросами, которые касаются здоровья родных: «У нас маленькая семья, мы все живем достаточно близко друг к другу. Когда ты врач, ты обычно разбираешься со всеми вещами, касающимися здоровья в своей семье. Болит ли зуб, нужно ли вакцинироваться — всегда [все говорят]: “Ну, ты же врач”».
Когда в 2020 году заболел ее трехлетний двоюродный брат Саша, Татьяна сразу же начала помогать. Мальчик жаловался на усталость, отсутствие аппетита, головокружение, а однажды упал в бассейне и «просто не смог встать», вспоминает Татьяна. В Морозовской больнице, куда сначала обратилась семья, у Саши обнаружили 10-сантиметровую опухоль в голове.
«До сих помню этот момент. Мне позвонила мама и говорит: “У Саши опухоль”. Жизнь поделилась на “до” и “после”, — Татьяна начинает плакать. — Моим самым большим страхом было, что дети заболеют раком. У меня уже долгое время было оформлено пожертвование в фонд, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Я не отписывалась и думала: “Не дай бог”. И это случилось в нашей семье».
Первая операция Саши длилась девять часов. Ее проводил молодой нейрохирург, которого по совету врачей больницы выбрала Татьяна. Он не удалил опухоль полностью, поэтому через неделю провел мальчику повторную, тоже девятичасовую операцию. Однако опухоль все равно была удалена не до конца.
По словам Татьяны, гистологический анализ не смог определить точный тип опухоли, поэтому врачи классифицировали ее как «эмбриональную». Их семья не смогла добиться консультации онколога в Морозовской больнице, поэтому они перевели мальчика в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко.
Там Саше удалили опухоль целиком и через неделю выписали из больницы домой. Все это время Татьяна переписывалась с врачами в Германии и договаривалась об отправке биоматериалов брата на гистологию: у него все еще стоял неточный диагноз.
Новая гистология показала, что опухоль совершенно другого генеза — из кости — и лечение необходимо другое. В конце концов мальчику диагностировали саркому Юинга. По словам Татьяны, ей пришлось самой искать необходимую информацию о диагнозе брата в американских и европейских медицинских гайдлайнах, чтобы быть уверенной в том, что ему назначили правильные обследования и лечение. «Мне кажется, я ни про одно гинекологическое заболевание не знала столько, сколько про саркому Юинга», — говорит она.
Саше назначили новую терапию, он стал восстанавливаться, начал снова бегать и прыгать. Но результат дообследования показал, что болезнь сильно прогрессировала и шансы на выживаемость мальчика сократились.
«Мы подключили вообще все возможности. Но, к сожалению, через девять месяцев у ребенка случился регресс. В один момент он просто ушел в сопор, и его снова госпитализировали в Морозовскую, к тем же нейрохирургам. Как говорит моя тетя: “Где все началось, там и закончилось”. Через две недели после госпитализации Сашки не стало», — рассказывает Татьяна.
В смерти брата Татьяна винила себя, особенно за выбор Морозовской больницы и врача, который провел первые две операции. «Когда в семье случается такая история, у тебя нет своих собственных чувств, нет права расслабиться, поплакать. Ты должен собраться, чтобы ребенок мог жить и ему было комфортно. Потом, когда Саша умер, все это, конечно, нахлынуло, — Татьяна снова начинает плакать. — Долгое время у меня был какой-то эмоциональный ступор, и вот это постоянное наматывание, что ребенок мог еще пожить, не отпускало долго».
Татьяна отмечает, что, хоть она и привыкла подключаться к лечению своих близких и принимать все решения, касающиеся здоровья семьи, самой ей это доставляет больше дискомфорта, чем удовлетворения.
«Мои близкие и подружки любят говорить: “Ой, как хорошо, что ты у нас есть”. Но я сама не люблю смотреть своих близких — очень высока цена ошибки. В ситуации с братом у меня периодически были истерики, потому мне нужно было принимать медицинские решения и быть просто любящей племянницей [для родителей Саши] и сестрой. Это очень сложно», — говорит Иванюта.
В общении со своим психологом Татьяна упомянула смерть Саши лишь однажды и вскользь — как она говорит, потому что была не готова подробно обсуждать это. Пережить и принять смерть Саши ей помогла книга Меган Девайн «Поговорим об утрате. Тебе больно, и это нормально». «Там написано, что в обществе не принято страдать и оплакивать, — рассказывает Татьяна. — И это действительно так. Например, когда ребенок умирал, какая-то местная санитарка сказала тете: “Ну че ты плачешь, такая молодая, родишь еще”. Даже мои мама с бабушкой иногда говорят: “Почему она [тетя] постоянно плачет?”. Господи, да пусть плачет. Это нормально. Книга помогла мне понять, что смерть брата — это не божья кара, не наказание, а просто стечение обстоятельств. Это просто случилось — такая неудачная лотерея, которую “выиграла” моя семья».

Умер и умер
То, что врачи в своей работе часто сталкиваются со смертью, становится для них сильной эмоциональной нагрузкой, говорит клинический психолог Ольга Сорина. Однако, по ее словам, в российской системе здравоохранения с этим практически не работают. В зарубежной же практике, если пациент умирает, проводятся междисциплинарные разобры, и на этих встречах врачи, с одной стороны, обсуждают чисто технические вопросы: что можно было бы сделать лучше в следующий раз — а с другой — делятся своими переживаниями и эмоциями.
«У нас такого вообще нет — умер и умер, — говорит Сорина. — Это тяжело, даже когда дело касается незнакомого человека. А если мы добавляем сюда родственные связи и мысли человека о том, что он мог повлиять на выздоровление своего близкого, но не справился, то человек может столкнуться с беспомощностью такой силы, что вообще потеряет возможность работать по специальности. Он просто уходит работать, например, фармацевтом, чтобы не встречаться с пациентами и не иметь отношения к тому, что с ними дальше происходит. И даже если врачу будут говорить: “Ты не виноват, ты не мог на это повлиять”, это не сработает. Потому что внутри себя человек уверен, что мог: у него же есть специальные знания». По словам Сориной, также бывает, что врач может вернуться к своей прежней работе, но утрачивает способность сопереживать своим пациентам, становится отстраненным.
Все осложняется тем, что среди медицинских работников не принято обращаться за помощью к психологам. «В системе, в которой у нас сейчас работают врачи, как будто бы вообще нельзя говорить про чувства, — объясняет Сорина. — Они стараются справляться другими способами, в том числе с помощью алкоголя».
Татьяна Иванюта говорит, что история с лечением брата подтолкнула ее к тому, чтобы сильнее углубиться в вопросы коммуникации с пациентами, — она стала читать больше профессиональной литературы, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения с ними. Теперь она старается принимать выбор пациентов и не брать на себя ответственность за их решения — даже, на ее взгляд, заведомо неправильные.
Евгению Чайкину, основателю школы медицинского общения «Врачи говорят», удалось направить боль от утраты в созидательное русло. Бабушка Евгения умерла в ноябре 2021 года. За год до этого он заметил, что она «сильно сдала»: у нее обострились многие хронические и возрастные заболевания — сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет. Также сильно ухудшилось и ее психологическое состояние, потому что практически одновременно умерли дедушка Евгения, лучшая подруга бабушки, с которой они раньше вместе работали и каждый день созванивались, и любимая собака.
Из-за всего этого бабушка потеряла мотивацию к лечению и выздоровлению. «Но я этого не учел, — говорит Евгений. — Мне хотелось помочь бабушке. Я пытался ее сюда записать, туда отправить, с врачами договориться. Она же сопротивлялась и говорила: “Я не хочу, мне надоело, я уже устала жить”. А бабушка ведь и сама была врачом. Она училась по-другому, уже много лет не практиковала, и у нее были иные представления о медицине, что дополнительно осложняло наше общение».
Постепенно бабушка перестала следить за показателями анализов, у нее нарастала одышка даже в состоянии покоя, опасно увеличивался уровень сахара. Ее забрали в больницу, и на следующий день она умерла. По словам Евгения, они с бабушкой так и не успели «поговорить без претензий друг к другу и попрощаться».
«Мы были с ней близки как, наверное, ни с кем больше — не в обиду остальным моим родственникам. Поэтому после ее смерти я очень сильно разрушился. Возникло чувство вины, что я сделал не все, что мог», — говорит Евгений.
Он считает, что с медицинской точки зрения ошибок не совершил: у бабушки были хоть и серьезные, но достаточно ясные диагнозы с понятным механизмом лечения. Ошибки, по мнению Евгения, были в эмоциональной сфере.
«Я пытался причинять добро, записывал бабушку к врачам без ее согласия, менял лечение, не обсуждая его с ней, — рассказывает Евгений. — Она то принимала препараты, то нет. Ситуация ухудшалась. Меня это все раздражало, мы не слышали друг друга и не понимали. Потом она вдруг захотела лечиться, но по-своему. Называла какое-то коммерческое название препарата, а я знал, что он гомеопатический. Договориться не получалось, и я вел себя не так деликатно, как хотелось бы. Я раздражался и не спрашивал, чего бабушка сама хочет, какие у нее мысли и чувства. Я просто говорил: “Нет, все, давай лечись” или “Давай еще вот это попробуем и вот это”. Может быть, если бы я был менее назидательным, мои рекомендации бы и сработали».
Евгений начал развивать свой проект — школу медицинского общения «Врачи говорят» — еще до болезни бабушки, а после ее смерти убедился в его актуальности: «Мне захотелось поговорить с коллегами о самом важном, но таком трудном: чтобы понять человека, послушай его, не перебивай».
В российских вузах не обучают общению с пациентами, говорит Евгений: никто не объясняет, зачем это нужно, как поможет, есть только предмет «Биоэтика» и студенты не воспринимают его всерьез — «кто-то спит, кто-то не ходит совсем». А в зарубежных университетах, по словам Евгения, предмет «медицинское общение» — базовый и обязательный для изучения.
«Если кто-то из родных заболеет, ты все равно эмоционально вовлекаешься, хочешь, чтобы у человека было все самое лучшее — причем лучшее в твоем понимании, — говорит Евгений. — Однако важно быть более бережным, отображать свои чувства через обсуждение. Например, говорить: “Я переживаю за тебя”, а не просто приносить домой пачку таблеток и говорить: “Теперь ты это пьешь”. Надо постараться слышать, что человек хочет. И если это ни для него, ни для окружающих не разрушительно, постараться поддержать его. И может быть, тогда всем будет легче, ведь поддержка от родных и уважение выбора человека — одно из самых лучших лекарств».
- Вести родственника как пациента в паре с другим врачом. Анна Сонькина-Дорман считает, что проверенный специалист, который возьмет на себя основное лечение, будет более нейтрален и объективен к ситуации, чем врач — родственник больного.
- Проговорить правила и обозначить границы. Например, как предлагает Ольга Сорина, можно договориться, что на приеме происходит общение только на уровне врач-пациент; при желании можно даже обращаться друг другу по имени и отчеству. Также можно договориться обсуждать вопросы здоровья только на приеме, а дома эту тему не поднимать, или определить четко оговоренное время для звонков и сообщений.
- Как можно раньше пойти на терапию. Это главное, что может сделать для себя врач, считает Сонькина-Дорман. Личная терапия необходима специалисту, чтобы отрефлексировать свои отношения с близким человеком, который станет или стал его пациентом.