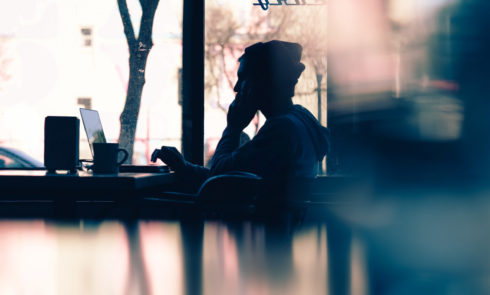«Я не псих, мне не нужна помощь», «Со мной все в порядке», «Уходите» — привычные фразы для психолога, который появляется на пороге дома смертельно больного человека. Даже в больших городах сопровождать умирающих готовы всего один-два специалиста, а их зарплаты в больницах иногда признают «нецелевыми расходами». «Холод» поговорил с онкопсихологами и с родственниками больных — о том, зачем нужна такая профессия и почему паллиативных психологов так мало.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
«Честный разговор снимает чувство ужаса»
Иногда бывает, что пациенты выгоняют онкопсихолога Павла Сапожникова, когда он приходит к ним в первый раз:
«— Я не хочу с тобой разговаривать.
— Окей, тогда я приду к тебе через день.
И я прихожу через день. И он снова может меня выгнать. В нем очень много зависти, очень много злости. Я говорю:
— Тогда я приду к тебе еще через день.
— А че ты пришел-то такой красивый? О чем ты можешь со мной разговаривать?
— А о чем ты хочешь поговорить? Есть что-то?
— Нет, я ни о чем не хочу разговаривать.
— Ну тогда я просто побуду с тобой. Можем попить чаю, можем попить воды. Как ты сегодня себя чувствуешь?
И потихоньку человек начинает разговаривать: "Ужасно" или "А как ты сам думаешь?". Начинает проявлять агрессию — но эта агрессия не по отношению ко мне, это ярость и злость на несправедливость мира. И слово за слово у человека начинают течь слезы. Тогда я понимаю, что работа началась».
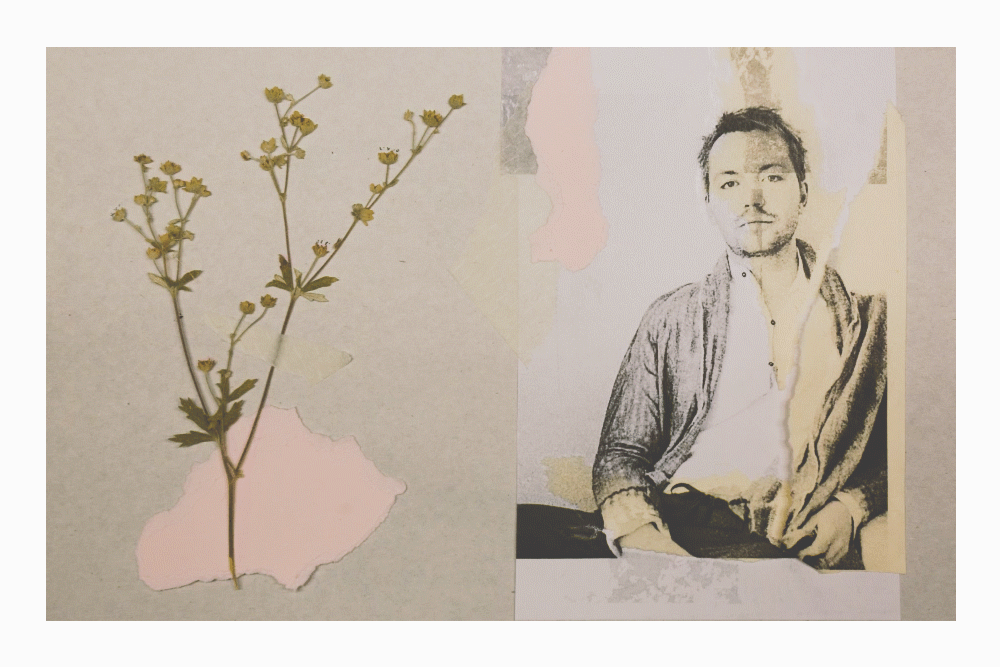
Павлу Сапожникову 36 лет, он живет в Екатеринбурге и сопровождает терминальных пациентов к смерти — так это называет он сам — с 2015 года. Но это — меньшая часть работы онкопсихолога, чаще он помогает человеку найти силы, чтобы поправиться. «Первая и вторая стадии лечатся на ура, — говорит он. — Это лечение сложное, долгое, отравляющее, иногда инвалидизирующее, но большая часть людей точно выздоравливают. Третья стадия — можно еще спасти человека. Четвертая стадия — как правило, это уже разговор о смерти».
К частным паллиативным пациентам Павел приезжает домой — там, по его словам, работа получается более глубокой. Чаще всего психолога приглашают родственники умирающего человека. «Близкие не знают, как с ним об этом разговаривать, — говорит Павел Сапожников. — Те, кто заботится о своем родственнике, не говорят о происходящем, чтобы его не расстроить, а он молчит, чтобы не расстроить их. Получается, что все варятся в собственном соку».
Зачастую родственники относятся к психологической помощи лучше, чем пациенты: те находятся в стадиях отрицания, гнева или торга и могут реагировать на предложение обратиться к психологу агрессивно. Пациенты старшего возраста редко задумываются о психологе. «У людей 60+ нет культуры психологической поддержки, — объясняет руководитель проектной деятельности благотворительной организации помощи онкопациентам “Вместе ради жизни” Юлия Аристова. — Если они всю жизнь привыкли справляться сами, то и с появлением болезни это не изменится». Спокойнее к мысли о помощи психолога относятся те пациенты, у которых был опыт общения с ним раньше. Но в целом, как говорит руководитель службы помощи онкологическим больным «Ясное утро» Ольга Гольдман, «в нашем обществе бытует мнение, что к психологам обращаются только “психи” или “слабые”».
Приходя в семью, Павел сначала разговаривает с родственниками — начинает с «дежурных» вопросов, которые помогают расположить собеседников к разговору: Когда узнали о заболевании? Каким было лечение? Когда поставили терминальный диагноз? Онкопсихолог может дать телефоны горячих линий, где ответят на медицинские и юридические вопросы, которые есть у родственников. «В разговоре мы подходим к тому, что они чувствуют, — говорит Павел Сапожников. — Например, вину за то, что не могут позволить себе бросить работу и находиться рядом с близким — ведь иногда процесс умирания может длиться долго».
После разговора с родственниками Павел заходит в комнату к пациенту. «Никаких формул и четкого плана, как выстроить разговор, у меня нет, — говорит он. — Все зависит от того, в каком состоянии человек, может ли он самостоятельно за собой ухаживать, находится ли он на тяжелых специальных препаратах. Но, как правило, человек уже понимает, что с ним происходит».
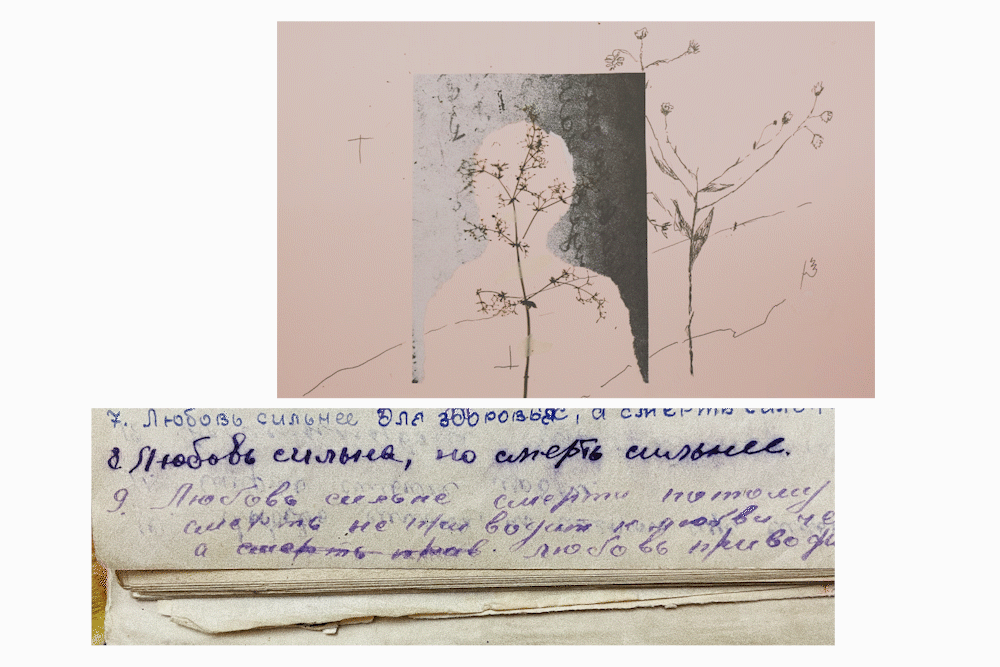
Когда человек узнает о том, что умирает, особенно если известие было внезапным, он испытывает шок. «У него есть ощущение несправедливости, вопрос "За что?", зависть к живым, здоровым — тем, кто будет жить, — говорит Павел Сапожников. — Задача психолога если не привести его в стадию принятия, то честно поговорить о происходящем. Потому что честный разговор снимает чувство ужаса. В разговоре с умирающим нет времени ходить вокруг да около. Ты разрешаешь человеку проявлять свою боль, свой гнев, ярость, зависть, то есть все то, что нам по сути запрещено проявлять в жизни — это социально неодобряемые чувства».
Задавая пациенту вопросы и наблюдая за реакцией на них, онкопсихолог старается «раскрыть» его — после этого, по словам Павла Сапожникова, случается катарсис: «Человеку настолько больно и страшно, он настолько ощущает несправедливость происходящего с ним, что в какой-то момент все будто схлопывается. Он начинает кричать, рыдать, иногда до тошноты. И когда этот всплеск происходит, снимается напряжение — и человек готов наладить контакт со своими близкими».
Прийти к этому контакту помогают и вопросы онкопсихолога: «"Есть ли что-то, что могут сделать для тебя твои любимые? Ты чего-нибудь хочешь? Ну неужели совсем ничего?". Иногда это похоже на разговор с ребенком, потому что страдающий человек очень часто уходит в какую-то детскость», — объясняет Павел. Но даже перед самой смертью какие-то желания у человека всегда есть. «Я рекомендую тем, кто прощается с жизнью, быть капризными, — говорит он. — И прошу их близких позволить им быть капризными. Мы не умеем проявлять любовь и не умеем ее принимать. А своими желаниями и просьбами человек может показать близким: "Люби меня вот так"».
«Поток пациентов изнашивает, лишает чувствительности»
Психологическую помощь получает ничтожно малое количество пациентов и их родственников, и это происходит не только из-за их настороженного отношения к психологии. Главная причина в том, что работа психологов с паллиативными и онкопациентами не ведется системно. В стандартах оказания паллиативной помощи ставки психолога появились только в 2019 году — они имеют рекомендательный характер и, соответственно, финансируются по остаточному принципу.
«Больницы не могут потратить выделенные им деньги на зарплату психолога, — говорит Ольга Гольдман. — Психолог в медицине находится внизу иерархии, ниже, чем медсестра, хотя это специалист с высшим образованием, который дополнительно получал специализацию. Такая сложная работа должна оплачиваться достойно, иначе там никогда не будет людей».
Сейчас чаще всего психологическую помощь онкопациентам оказывают специалисты НКО, а собственная психологическая служба в медучреждении — обычно инициатива главврача. «Это заслуга конкретных руководителей, которые понимают ценность этой работы, — говорит Гольдман. — Я знаю о случаях, когда зарплата психологов признается ОМС нецелевыми расходами и инициативные руководители получают по шапкам — закрывают ставку, потом опять открывают, потому что без психолога считают невозможным работать: ведь не только страдают пациенты, но и врачи выгорают».
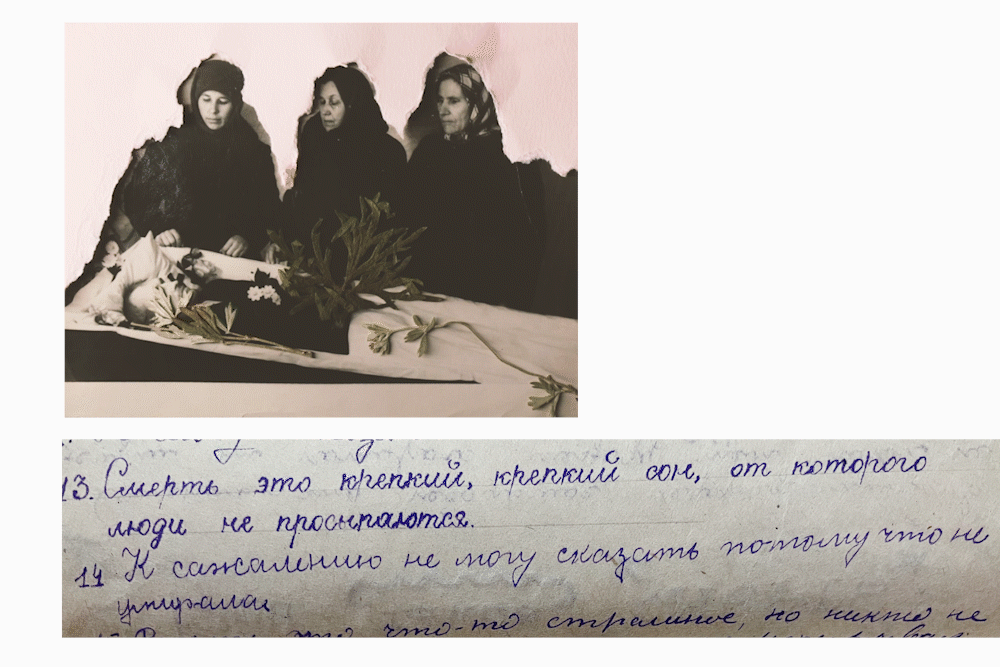
Хосписам и паллиативным отделениям рекомендуется иметь одного психолога или психотерапевта на 15 пациентов. «Законодательно закреплено, что паллиативная помощь — это не только снятие тягостных симптомов, но и оказание психологической поддержки пациентам и их родственникам, — говорит Марина Соколова, руководитель образовательного отдела Ассоциации хосписной помощи. — Вопрос только, где людям найти эту помощь. В Москве специалисты есть, а вот в регионах все намного сложнее».
«В крупных городах есть лишь один-два психолога, работающие с онкологическими или паллиативными пациентами и их семьями, — говорит Ольга Гольдман. — У психологов есть выбор не залезать в такую сложную сферу. Туда идут только те, кто понимает смысл такой помощи и у кого высокая мотивация помогать».
Павел Сапожников пришел к работе с паллиативными пациентами в 2015 году после череды смертей близких ему людей. Переживая тяжелое время, он пытался разобраться со своим горем и нашел в интернете лекции израильского психотерапевта и танатолога Линн Халамиш. «Она говорила, что работа с умирающим пациентом ее наполняет, — вспоминает Павел. — Я подумал: какая-то извращенка, как может наполнить человек, который умирает?».
После утрат Павел сам оказался в больнице, а после выписки понял, что хочет работать в паллиативе. «Это было как какое-то прикосновение свыше, — говорит он. — А потом я оказался в этом просто хорош — устойчив». Окончив вуз, Павел стал волонтером в Екатеринбургском паллиативном центре. «Первая моя пациентка была взрослая женщина с терминальной стадией онкологического заболевания — с пергаментной кожей, с очень ясными, чистыми голубыми глазами. Мы с ней говорили — и я потерял счет времени, даже не помню, о чем и как, но я вышел вдохновенным. Это была очень честная работа, очень искренняя», — рассказывает он.
Инесса Шереметова, у которой первое образование — педагогическое, решила стать психологом, когда сама столкнулась с онкозаболеванием — прямо во время лечения она поступила в Московский институт психоанализа, а затем прошла программу повышения квалификации, стала клиническим онкопсихологом и спустя некоторое время пришла в фонд «Обнимая небо».
Работая с пациентами хосписа, она неоднократно сталкивалась с выгоранием. «Несколько раз у меня бывало такое: я зашла в палату, поговорила с пациентом, узнала, как самочувствие, настроение, увидела, что у человека мало сил.
— Устали?
— Устал.
— Я к вам приду тогда через полчасика?
— Да-да, придите, мне, наверное, полегче станет, и мы еще поговорим, я буду вас ждать.
Я прихожу через полчаса, а пациента нет, он умер. Был человек — нет человека. Это было для меня ударом», — рассказывает Инесса.
У паллиативных пациентов также часто нет сил на обратную связь, поэтому специалист должен тонко чувствовать людей, пытаться, как говорит Инесса, «по полутонам, полусловам понять, что беспокоит душу человека». «Общаешься с человеком, а он просто кивает головой, в глазах мало жизни, — рассказывает она. — И кажется, что это я недорабатываю, я бесполезная. Эти мысли приводили к выгоранию. Включался “синдром бога”: со мной люди не должны умирать. Но люди умирают, и в этот момент мне много раз приходилось быть рядом, держать их за руку, поддерживать родственников».
Благодаря работе над собой и личной терапии Инесса восстановилась и продолжает работать паллиативным психологом. С пациентами она старается сохранять дистанцию — «чтобы не проваливаться в эмоции». «У каждого из нас есть ограниченное количество ресурсов, чтобы похоронить близких людей, — говорит она. — Если таких людей будет очень много, это очень тяжело».
С опытом Инесса научилась замечать первые признаки выгорания. «Раздражение — это первый звонок, что я перегрузилась, — объясняет она. — Тогда нужно дать себе жизни — например, взять отпуск на неделю. У меня есть свои способы: мне надо хорошо поспать, пойти на иглоукалывание, я практикую медитации, люблю прогулки, рисую. Но помимо всего этого есть принятие: я выбрала это, это моя жизнь. У меня такая специальность, я понимаю ее необходимость — не геройствую, а просто делаю».

Специалисты считают, что после 5-7 лет работы с горем и утратой психологу нужно менять направление, чтобы не выгореть. Павел работает с паллиативными пациентами уже 6 лет, однако выгорания не ощущает. «В больнице поток пациентов изнашивает, лишает чувствительности, — говорит он. — Это конвейер — ужасное слово, но это так. Частная практика хороша тем, что я могу не спешить. Не разрушаться — это навык. У меня есть свой психолог — супервизор, я бесконечно учусь. Очень важно бережно относиться к себе — помогают фильмы, сериалы, спортзал, хорошая литература. Когда я чувствую, что нужно восстановиться, гуляю с собакой в лесу, около которого живу, играю на фортепиано и пишу тексты. Иногда просто туплю дома — и получаю от этого несказанное удовольствие. Меня восстанавливает и работа, как ни странно. Я люблю ее, потому что вижу, как меняется состояние людей. Когда я вижу ее результат, выхожу с сессии не уставший, а наполненный».
Павел объясняет, что работа с паллиативными пациентами не кажется ему тяжелой еще и потому, что его собственное отношение к смерти не искажено страхом и невежеством. «Я точно знаю, что умру, — говорит он. — И я точно знаю, как хочу умереть: окруженным любовью и заботой, без боли. Я хочу, чтобы к тому времени, когда я буду умирать, у нас была налажена паллиативная помощь. Я точно не хочу, чтобы мне меняли подгузники мои дети или любимые. Я не хочу, чтобы это было настолько тяжело, как у моей знакомой — срастись разлагающимися мягкими тканями с диваном. Я хочу, чтобы за мной ухаживали аккуратные паллиативные нянечки. Но, возможно, это будет не так».
По мнению Ольги Гольдман, ситуация в сфере психологической поддержки в онкологии и паллиативе постепенно меняется. В ноябре 2021 года в Москве прошел 13-й ежегодный съезд онкопсихологов, который, помимо методической поддержки, помогает и бороться с профессиональным выгоранием, считает Гольдман: «Участники видят: да, я один специалист на город и в других городах их тоже не очень много, но все-таки мы есть и мы вместе делаем одно очень сложное дело, эта работа необходима и результат есть. С каждым годом растет количество участников съезда, а значит, и специалистов, работающих в этой теме все больше».
«Человек напоен, накормлен, но никто не видит, что болит душа»
Галина Михайловна Кухмистрова всю жизнь до 62-х лет работала логопедом в коррекционной школе. «Речь — это ее хлеб, — говорит ее дочь Татьяна Разумова. — Она ставила речь детям с отклонениями умственного развития и преподавала им русский язык и литературу. Маму поразил боковой амиотрофический склероз бульбарного типа — в первую очередь у нее отнялась речь. Потом начались проблемы с дыханием».
Зимой 2018 года у Галины Михайловны появились первые симптомы. «Она говорит: "Таня, что-то я медленнее стала говорить, растянутее", — вспоминает ее дочь. — Мы обращались к врачам, но диагноз долго не могли поставить. Когда мы перестали понимать мамину речь, она стала все записывать на бумаге или в телефоне — рука работала хорошо».
Узнав, насколько серьезен диагноз, Галина Михайловна, по словам дочери, начала судорожно искать информацию о том, куда можно обратиться за помощью в регионе — и вышла на омский фонд «Обнимая небо». На первые консультации в фонд приходила дочь Татьяна, которая жила в Омске, а Галина Михайловна находилась в поселке Муромцево вместе с мужем, отцом Татьяны. «Сотрудники фонда все время спрашивали: "Когда приедет ваша мама?" — вспоминает Татьяна. — К ней в деревню они поехать не могли — это 200 км».
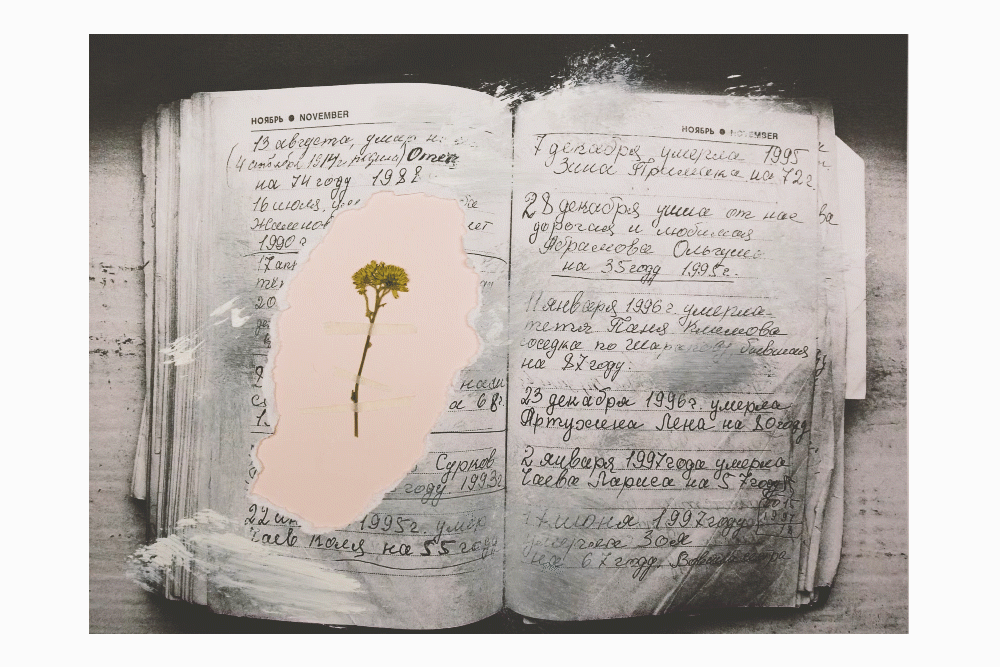
Когда Галина Михайловна узнала о том, что с ее диагнозом живут всего несколько лет, она начала постоянно плакать. «Понимала, что медленно уходит, — говорит Татьяна. — До этого момента, уже будучи на пенсии и уже когда не очень хорошо разговаривала, мама продолжала работать. Мы с ней даже смеялись, что дети ее не понимают, а она еще учит их речи. Уйдя с работы, дома, в изоляции, мама перестала чувствовать себя нужной. Папа был в стрессе и недодал ей ласки, нежности — он был жестким».
Галина Михайловна раньше никогда не бывала у психолога и, когда дочь предлагала ей поговорить со специалистом хотя бы по скайпу, говорила: «Зачем он мне нужен?». «Я видела, что мама боится смерти, видела ее панику, ужас, — вспоминает Татьяна. — Но она скрывала свои чувства, просто часто плакала. Она постоянно была в интернете, читала, сколько ей осталось, говорила только про БАС, БАС, БАС — никакой другой жизни. Я понимала, что нужно как-то помочь ей не углубляться в болезнь, тоску и печаль. Ведь есть же люди, которые понимают, что жить им осталось недолго, но могут переключиться и прожить последние годы или месяцы не то чтобы с радостью или в удовольствие, но без надрыва — выжмут максимум из этой части жизни. Мама была очень сильной женщиной, она могла бы прожить дольше, но борьбы за выживание не случилось, она просто сломалась».
Спокойному отношению к смерти людям в российском обществе мешает уровень жизни, считает психолог, руководитель стационара детского хосписа «Дом с маяком» Алена Кизино. «В нашем обществе люди в основном не живут, а выживают здесь и сейчас, — говорит она. — У них нет ресурсов, чтобы продумать: как я хочу жить? А есть ли у меня выбор? Что я могу выбрать? Это влияет на отношение к смерти: если я еще не пожил, какая смерть? Принципы в нашем обществе: выжить, урвать, во что бы то ни стало быть успешным. В нашей культуре, если ты болен или стар и немощен, если ты просишь о помощи — это знак того, что ты уже за пределами успешности, ты по ту сторону. Этого никто не хочет, от этого ограждаются. Ведь непонятно, будут ли о тебе заботиться, будешь ли ты обезболен. Поэтому смерть — это очень страшно».
Весной 2020 года, когда Галина Михайловна перестала говорить и ходить, муж и сын перевезли ее из поселка в Омск, в квартиру к дочери. Татьяна и ее муж старались обеспечить матери нормальные условия: «Мы не знали, как нужно действовать, но старались, как могли. В деревне, где она жила, не было горячей воды, помыть ее было невозможно. А здесь мы с мужем каждые выходные мыли ее и гуляли с ней на коляске. Для нее это была радость».
Татьяну продолжал поддерживать фонд «Обнимая небо». «Я могла позвонить сотрудникам в любое время, — говорит она. — У меня было столько вопросов, ответы на которые мне никто, кроме них, не давал». Когда Галина Михайловна оказалась в Омске, к ней стала приезжать бесплатная выездная паллиативная служба фонда — врач-онколог и медсестра.
Во время первого визита к пациенту сотрудники бригады предлагают помощь психолога. Если пациент согласен, Инесса Шереметова, штатный паллиативный психолог фонда, звонит ему и предлагает встречу или разговор по телефону. «В 70% случаев человек отказывается: "Уже все в порядке, не надо", — говорит Шереметова. — Но с психологом нужно начинать разговаривать сразу, как поставлен диагноз, когда еще есть силы и время. Паллиативная служба заботится в первую очередь о теле — потому что оно болит. Но бывает, что все обработано, человек напоен, накормлен, а душа болит. Но все такие: нет-нет, только не психолог, мы сильные, мы справимся».
Во время одного из визитов врача фонда Татьяна заговорила о психологическом состоянии мамы. «Я не была готова видеть больную маму и не знала, как себя вести, — рассказывает она. — Я не хотела показывать ей, что тоже страдаю и мне больно за нее, потому что она сразу начинала плакать. Я все скрывала, как будто я черствый сухарь, уходила и плакала. Я не могла забрать у мамы ее ношу, поэтому все, что у нее на душе, я перепоручила Инессе».
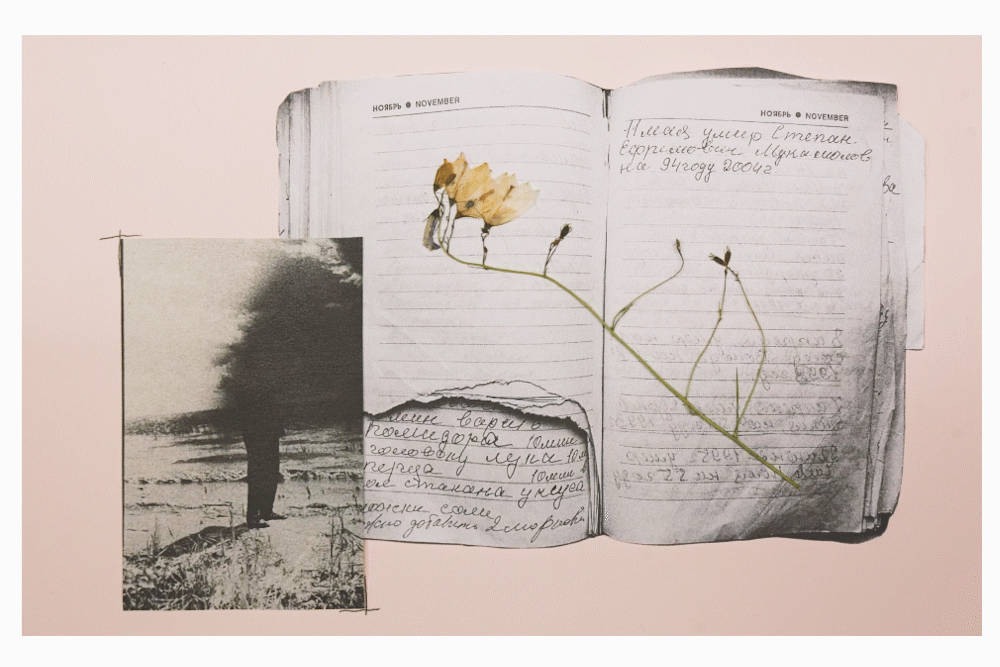
В следующий раз врач приехала к Галине Михайловне вместе с психологом Инессой Шереметовой, и последние полгода жизни они регулярно общались: психолог говорила, а Галина Михайловна печатала на ноутбуке и писала на бумаге или на маркерной доске. Когда началась пандемия, они стали переписываться по электронной почте.
«Когда Галина еще могла печатать на ноутбуке, она отправляла мне письма, полные страха, — говорит Инесса. — Активный человек вдруг стал беспомощным, немощным — Галина не могла это принять. Но ведь принятие не означает, что нужно опустить руки и отвернуться к стенке. Принятие — это "я сейчас лежу, не могу сам есть. Но я могу общаться с близкими, смотреть телевизор, быть с психологом. Жизнь продолжается — такая непростая жизнь". Люди в принятии легче и спокойнее уходят — не физиологически, а эмоционально. Не все к этому приходят, но я все равно остаюсь с человеком, снова и снова давая ему поддержку. У Галины принятия не случилось».
Татьяна считает, что работа ее мамы с психологом началась слишком поздно. «Она была уже в таком психическом состоянии, что психолог не смогла помочь ей в полной мере», — говорит она. Тем не менее, Галина Михайловна всегда была рада видеть Инессу, спрашивала, когда та приедет в следующий раз. В последние дни жизни Галины Михайловны сотрудники фонда продолжали приезжать к ней. «Инесса держала ее за руку — мама иногда просыпалась и видела ее», — говорит Татьяна.
«Я предполагаю, — говорит Инесса, — что, когда человек на пороге смерти, все слова уже не имеют значения — для взаимодействия нужен какой-то другой уровень. Моя задача — прийти спокойной, чистой, наполненной и давать поддержку через присутствие, когда совсем рядом смерть».
«Кажется, что никто в таком горе, как ты, не был»
Среди взрослых паллиативных пациентов только 34% — с онкозаболеваниями, остальные — люди с хроническими неизлечимыми болезнями. «Средняя продолжительность жизни с неизлечимым онкодиагнозом — полгода, — говорит Марина Соколова. — За это время вокруг человека нередко происходит всплеск любви близких. Человек принимает болезнь и свою скорую смерть, и родственники проходят тот же путь. За пациентами с другими неизлечимыми заболеваниями родственники вынуждены заботиться гораздо дольше, порой много лет. В такой ситуации психологу надо спасать их, потому что те, кто ухаживает за пациентом, выгорают. Это самое слабое звено».
Татьяна Разумова тяжело переживала болезнь мамы, а поддержки от близких родственников она не получала. «Горе не сплотило, а разъединило семью. Мы с отцом и братом не могли спокойно разговаривать. Было много злости, грубости. Я находилась в колоссальном напряжении, не могла нормально спать. Не выключала телефон 24/7, потому что мама в любой момент могла написать смс "мне плохо". Для меня забота о маме была непосильной ношей, это сказалось на моем здоровье. С ее смерти прошел уже год, но меня и сейчас постоянно тошнит, я плохо ем, у меня все болит — то голова, то желудок».
Инесса, приезжая к Галине Михайловне, видела состояние Татьяны и предложила ей провести несколько бесплатных консультаций. «Вначале я подумать не могла, что мне нужен психолог, — вспоминает Татьяна. — Казалось, справимся сами. Я взяла на себя эту ношу, а потом поняла, что тону. Психолог нужен, чтобы люди не барахтались один на один с горем».
В последний день жизни Галины Михайловны Татьяна уехала по делам. Вечером ей позвонила сиделка и сообщила о смерти матери. Ее муж взял подготовку к похоронам на себя.
Татьяна плохо помнит, как прошли те дни. «Я была просто зомби, — говорит Татьяна. — Понимала, что у меня умерла мама, что-то происходит — а что, надо плакать? Что делать? Раньше я не знала, что близкие так страдают, когда родственник умирает, и что это может сказаться на их здоровье».
«Для родственников сопроводить человека к смерти — означает прощать и прощаться навсегда, — говорит психолог Павел Сапожников. — Сложное время с близким в терминальной стадии болезни дает шанс "долюбить" его. Если этого не случилось, после смерти близкого его родственников часто пожирает чувство вины. В основном, за то, что недостаточно любили, мало времени проводили вместе. Вина — это такой психологический перевертыш, ширма, за которой прячутся чувства к умершему, о которых не принято говорить. Иногда это злость за то, что человек нас "бросил": какого черта он умер и оставил меня? Это может быть обида или другое чувство, которое не было прожито вместе с человеком, не было высказано и "застряло"».
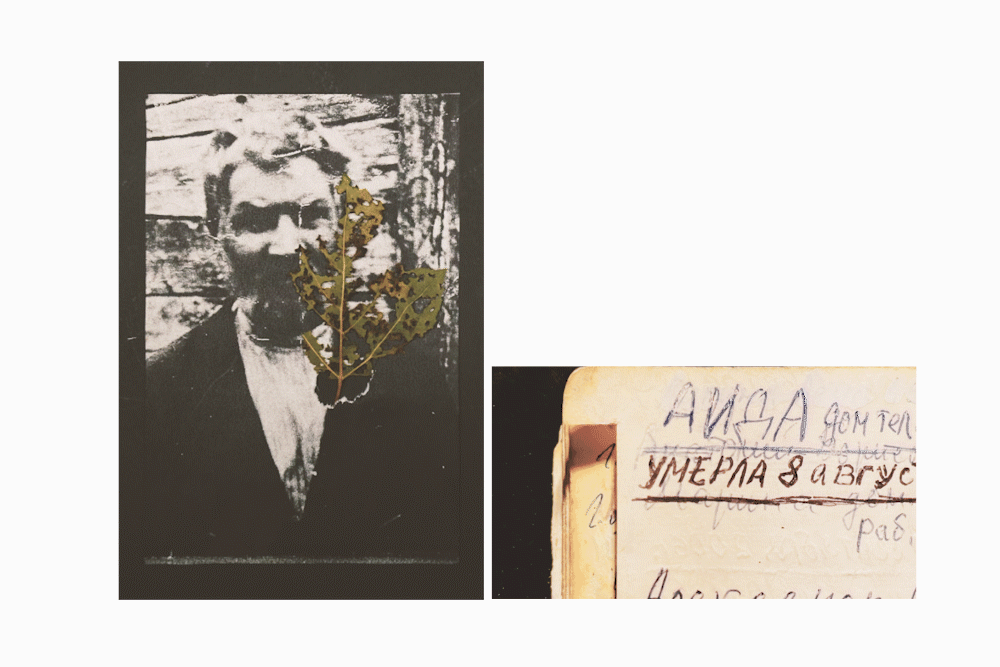
После смерти мамы Татьяна, по ее словам, не могла выходить из дома, спала целыми днями и ничего не ела. «Была какая-то пелена — бессилье и плохое самочувствие, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вроде бы и хочешь из этого состояния выйти, но на это нет сил. Кажется, что никто в таком горе, как ты, не был. Тут нужен специалист, который понимает, как выводить людей из такого стресса».
Инесса предложила Татьяне провести еще пять бесплатных консультаций. «Я очень ждала этих встреч, — говорит Татьяна. — Инесса стала для нас близким человеком. Она знала маму, знала про мое горе, мне не нужно было объяснять. Первые консультации я просто ревела, мне было плохо физически и психически, но я двигалась маленькими шажками. И этому была рада».
Сейчас Татьяне, по ее словам, немного легче — «мозг может соображать». Ей пришлось прервать работу с психологом из-за финансовых проблем, но она понимает, что необходимо продолжить. «Горе у меня никуда не делось, я просто его отодвинула на время. Пережила все сумбурно и спрятала подальше внутрь этот комок. Сейчас мне его страшно распутывать — пока я к этому не готова. Наберусь ресурса и буду дальше работать с психологом».
«Как они спокойно ходят, разговаривают, улыбаются? Мы же все умрем»
Юлия Фролова не помнит, как услышала от врача свой диагноз «меланома» и как провела три месяца после этого. «Я будто оказалась в океане и бесконечно долго падала на дно. Сейчас понимаю, что надо было упасть, оттолкнуться и всплыть наверх, а тогда я просто не могла выбраться из этого состояния». Юлия помнит только, как лежала, укрывшись с головой, плакала и ничего не понимала. Потом у нее начались панические атаки.
Юлия живет в Екатеринбурге, но до болезни очень любила загорать. «Мой любимый отдых — пляжный. Четыре года назад, после отпуска на море, родинка на ноге начала увеличиваться. Мне нужно было прислушаться к доктору, которая настойчиво рекомендовала обратиться к онкодерматологу. Но тогда, в 2018 году, мне казалось, что рак может быть у кого угодно, но не у меня: я молодой активный человек — 43 года, работаю преподавателем в техникуме. В онкодиспансер я обратилась только спустя полгода».
После гистологии Юлии сообщили диагноз: злокачественное образование, меланома, стадия вторая. Прогнозы — неблагоприятные. «Меланому называют "черной королевой опухолей", — говорит Юлия. — Потому что она стремительно развивается, разносится по крови и лимфе, метастазирует практически во все органы. После приема я сидела у кабинета заведующего и мне казалось, что осталось несколько минут жизни. Увидев, в каком я состоянии, со мной заговорила Юлия Аристова, сотрудница организации «Вместе ради жизни», которая в том же коридоре разговаривала с волонтером. На вопрос “Что с вами случилось?” я ответила: “Ничего, я умираю”. Она спросила, могу ли я прийти в школу онкопациентов, которую организация проводит в онкодиспансере. Мне было все равно, я ответила: "Конечно"».
Когда Юлия впервые оказалась в пациентской организации «Вместе ради жизни», она увидела вокруг других онкопациентов — как она говорит, «красивых, успешных женщин». «Я на них смотрела и думала: это вообще кто? Они вообще откуда взялись? И как они спокойно ходят, разговаривают, улыбаются, чаепитие проводят? Мы же все умрем. Мы все умрем, причем быстро», — рассказывает она.

Школу пациентов вел онкопсихолог Антон Кузнецов, которого Юлия называет удивительным человеком. «Послушав его лекцию, четкую, грамотную, я поняла, что происходит с внутренним миром человека после постановки диагноза, — говорит Юлия. — Работая с психологом дальше, я осознала, что все, что я чувствую, — это нормально и через это проходят практически все. Только длительность и порядок стадий индивидуален. Сначала у меня была стадия отрицания — я не хотела говорить и слышать о болезни. Я прошла стадию депрессии — когда закрылась как в раковину от всего мира. На стадии гнева я ненавидела всех без исключения здоровых людей. Я прошла стадию торга: "я буду хорошей и за это мне вернется здоровье". А потом пришло принятие: ничего изменить нельзя и нужно научиться с этим жить».
Чтобы выйти из тяжелого эмоционального состояния, Юлии потребовалось 9 месяцев. В этом ей помогло не только лечение, но и психолог, к которому она приезжала на занятия раз в неделю. В 2018 году Юлию прооперировали, но в 2019 году случился рецидив — пришлось сделать еще две операции.
«Все это время психолог поддерживал меня, объяснял, что со мной происходит, — рассказывает Юлия. — Мне казалось, что я схожу с ума, бывали моменты, когда я вообще не понимала, как жить. Самое страшное в болезни для меня — даже не физическая боль, а панические атаки, неуправляемые, когда задыхаешься и кажется, что умрешь прямо сейчас. Их могли провоцировать мысли о будущем. Например, я хочу ходить на каблуках, но вдруг возвращаюсь в реальность — вспоминаю, что этого не будет, я физически не смогу. Психолог научил меня распознавать панические атаки и справляться с ними специальными методами».
В 2020 году лечение закончили — с тех пор признаков заболевания нет, и Юлия надеется на длительную ремиссию. «Я понимаю, что со мной происходит, — говорит она, — и научилась комфортно с этим жить: у меня заболевание — тяжёлое, хроническое, неизлечимое. Но таких заболеваний много, и меланома — просто одно из них. С ним можно жить, и даже жить комфортно».
В пациентской организации у Юлии появились друзья — волонтеры. «Это онкопациенты, которых в обычной жизни я бы не встретила никогда, — говорит она. — Чудесные люди, мне с ними хорошо, потому что там нет стигмы — никто не боится пить чай со мной из одной чашки, как было на работе. Сейчас, когда никто из нас уже умирать не хочет, спасать никого не надо, мы дружим семьями, ездим друг другу в гости. Я перестала упиваться собственными страданиями. Я стала нормальным человеком. Я прошла сложный путь и сейчас понимаю, что лелеяла горе и жалость к себе, а потом начала туда проваливаться. Но психолог смог мне объяснить, что я уже болею и не могу сделать откат системы так, чтобы болезни не было. Он научил меня ценить время. Болезнь украла его у меня. Если здоровый человек может надеяться, что доживет до 80 или до 100 лет — то у меня такой возможности нет. Поэтому я теперь ничего не откладываю на потом. Знаете, какая есть особенность у онкопациентов? И психологи ничего не могут с этим сделать. У нас нет завтра. Мы не строим планы. Я живу сейчас».
Юлия старается проживать каждый день «концентрированно»: «Захотелось чего-то — нужно сделать это, — говорит она. — Мне не может быть лень. Захотелось на танцы — значит, на танцы, захотела что-то купить — покупаю. Я научилась гасить страшные мысли — никакие раны не будут заживать оттого, что ты их ковыряешь. Я живу с диагнозом четвертый год, жду пятилетнего рубежа — после этого срока рецидивы случаются гораздо реже — и гоню от себя страшные мысли».