Вторжение в Украину бесповоротно изменило реальность всех россиян — даже если некоторые из них делают вид, что это не так. Среди людей, которым дольше всего придется иметь дело с последствиями войны, — те, кто не несет за нее даже формальной ответственности: дети, живущие в России. Писательница Юлия Яковлева, написавшая, среди прочего, серию детских повестей «Ленинградские сказки», решила выяснить, что российские дети думают и чувствуют сейчас, — и с конца февраля поговорила уже с несколькими десятками собеседников возрастом от пяти до семнадцати лет. «Холод» публикует некоторые результаты этого ненаучного исследования.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
В русском языке нет артиклей, определенного и неопределенного, как, например, в английском. Вместо них существует взаимное понимание в конкретной разговорной ситуации: собеседники просто понимают, что речь идет не о собаке или доме вообще, а вот об этой собаке и этом доме. Определенность как бы сама собой повисает в воздухе между говорящими.
Вот так и с войной. Раньше само слово «война» в разговоре немедленно подтаскивало к себе определенность войны 1941–1945 годов, «война» была Великой Отечественной. Теперь не так. Если вы произнесете «война», то собеседник немедленно подумает: война в Украине, война с Украиной, война, которая происходит сейчас.
В 2015 году в издательстве «Самокат» вышла моя книга «Дети ворона» и, как оказалось, положила начало серии «Ленинградские сказки». Это книги о том, каково расти, когда рухнул мир. Время действия — 1938–1946 годы. Вскоре после начала войны одна из читательниц написала мне то, что почувствовала и я сама: теперь мы живем в реальности «Детей ворона».
Чтобы написать эти книги, я прочла множество личных свидетельств эпохи: писем, дневников, воспоминаний. Одним из самых пронзительных российских документов войны 1941–1945 годов был дневник ленинградской девочки Тани Савичевой, последняя запись которого известна в Петербурге едва ли не всем: «Все умерли, осталась одна Таня». Свидетельства детей о войне — это всегда обвинение войне, даже если они раздаются в стране, которая напала.
Современные дети почти не ведут дневников. А если и ведут, то пишут не каждый день. Поэтому, когда война началась, когда прошла неделя, пошла другая, конец все не наставал и понятно было только то, что мы переживаем нечто невообразимое, немыслимое, я начала разговаривать с детьми. Расспрашивать, собирать их рассказы о том, как живется им сейчас. Что они видят, слышат, думают. Как ходят в школу, гуляют, ссорятся, дружат, читают. Что чувствуют.
Я думала так: я наверняка увижу, как война, которая идет далеко от них, пропитывает их разговоры, их ссоры и дружбы, их взросление. Я думала о том, что эти рассказы со временем станут бесценными. Люди захотят это знать точно так же, как мы хотели бы знать, что делали, говорили, думали дети в Германии 1933–1945 годов. Или нет, не так: эти рассказы бесценны уже сейчас. В конечном счете, вовсе не 70-летний президент решает будущее России. Его определят те, кому сейчас 5 или 17, 8 или 13. Короче говоря — дети. Точнее говоря, мои собеседники.

Это не антропологическое исследование и не соцопрос. Это просто разговоры, записанные во время войны, ни на что другое они не претендуют. С примерно двумя десятками детей я поговорила сама, еще примерно столько же — написали ответы на присланные вопросы. Я составила список вопросов так, чтобы они звучали максимально нейтрально, учитывали разные стороны происходящего, учитывали, самое главное, беспрецедентный раскол, который произвела война в российском обществе. Спорить, убеждать, переубеждать или просто доносить мою собственную точку зрения не входило в мои задачи. Ты поддерживаешь войну? Расскажи. Ты против войны? Расскажи.
Большинство ответивших — от 12 и старше. Самым младшим — пять. Нескольких язык не повернется назвать детьми: взрослые, самостоятельно мыслящие люди 17 лет. С родителями каждого я предварительно говорила сама, чтобы выяснить границы того, какие темы они разрешают обсуждать. Некоторые просили вопросы заранее, кто-то в итоге отказался. Не раз я оказывалась перед дилеммами. Как быть, когда маленький мальчик вдруг шепчет мне: расскажите, что там случилось, в Буче, а то никто не говорит? Только один раз ребенок спросил меня, почему я задаю все эти вопросы. Я ответила, что в одной исландской саге точно так же спрашивает героя, кажется, тролль, и герой отвечает: потому что я хочу знать. Ответ этот удовлетворил и тролля, и ребенка.
Одна из коллег-журналисток, которой я предложила присоединиться к моей затее, в каком-то смысле была совершенно права, когда отказалась: «Это бессмысленно». С точки зрения статистики — да, безусловно, бессмысленно. Я никогда не смогу сказать: дети в России думали то-то и то-то. Так почему же так сильна моя уверенность в том, что эти рассказы ценны? Очень просто: потому что так решили сами эти дети. Я не подслушивала разговоры на улицах. Не закидывала удочку. Не прикидывалась не той, кто я есть. Всем объясняла причину одинаково и прямо: потому что время сейчас историческое. Потому что я хочу знать.
Самым младшим моим собеседникам — пять-шесть, их, понятно, подбили поговорить со мной родители. Малыши не знают, что идет война, живут не во времени, а в вечности, и нужно пристально всматриваться, чтобы заметить в невинном ручейке их речей, как блеснет примета времени, как мелькнет быстрая, несомненная тень войны. Другое дело — подростки. Мне встречались растерянные, гневные, насмешливые, строгие, надменные, разозленные. Но уже тот факт, что они захотели рассказать о своем опыте, говорит, что они осознают ценность и своей позиции, и того, что пережили. Осознают историчность своего опыта. В этом осознании мне видятся посевы чего-то большего. Того, что потом станет «обществом». Того, что потом станет «поколением».
Только не говори маме
Я спрашиваю у родителей разрешения поговорить с их ребенком.
— Ну, поговорите. Только вряд ли она что расскажет.
— Можете поговорить, только не представляю, могут ли мои дети что-то сказать, что им рассказывать?
— Поговорите, только могут быть странные реакции, подросток есть подросток.
— Поговорить? Он ничего вообще не читает, ни о чем не думает.
— Он у нас не любит разговаривать.
— Попробуйте, только может ничего не выйти, она ни с кем не общается.
Родители пожимают плечами, сомневаются, многие соглашаются, но многие и отказываются. Это как раз не странно: каждый из родителей обязан считаться с реальностью России, в которой за слова — наказывают.
Странно вот что. Все родители когда-то сами были детьми и — о, ужас — подростками. С тех самых пор они должны бы помнить, что жизнь, которую ведут дети, и жизнь, которую родители думают, что ведут их дети, мягко говоря, отличаются, иногда даже это вообще две разные жизни. От одной этой мысли родительское сердце коченеет. Тем более сейчас, когда в стенах снова растут уши, а ребенок есть ребенок: может ляпнуть, брякнуть, написать, сделать, выпалить то, за что наказывают и взрослых. «Не могу поверить, что это сказала я, я! — но я ей сказала: я запрещаю тебе это говорить в школе». Увы: запрещать что-либо подростку более или менее бессмысленно. Они не перестанут делать то, что вы запретили. Они просто будут делать это так, чтобы вы не узнали. И делают.
— Только не говорите маме. Если хочешь, мы можем это убрать совсем, — предлагаю тогда я. — Нет, убирать не надо. Пусть будет. Просто маме не говорите.
— Мама расстроится.
Каждый из них уже успел увидеть, как уязвимы родители. Как далекая война пробивает бреши в том, что казалось таким надежным, скучным, навсегда, а теперь — зашаталось. Для многих детей это случилось впервые.
— Я никогда не видела у мамы такого выражения лица.
— Папа крикнул, это бывает не то что редко, это не бывает просто никогда. Понимаете? Никогда.
— Мы сразу испугались за маму.
— Когда мы узнали, что маму задержали, мы принялись дико хохотать. Потом успокоились, стали думать.
— Мама сказала: не говори про это в школе. Никому больше не говори, подумают, что мы так говорим дома.
— Я удалила аккаунты совсем. Понимаете, я же несу ответственность — за маму, за папу, за бабушку, за дедушку.
Мне хочется крикнуть: когда тебе 12 (13, 14, 15), твоя ответственность — это, например, уроки, а никак не все взрослые люди твоей семьи, власть в стране или конец войны. Но в Корее есть легенда о дереве: когда секрет напирает изнутри, надо найти дерево с дуплом, рассказать все в дупло, а потом его замуровать. Поэтому я молчу; сейчас я — дерево, они говорят. А иногда чувствовала себя громоотводом, в который они разряжали свои молнии.
Ни один разговор не длился меньше часа.
Я смотрю вокруг
В каждом разговоре я стремилась сначала прояснить, что именно дети наблюдают сами. Каков доступный им обзор? Быстро выяснилось, что дети похожи на кошек: те обходят «свою» территорию одними и теми же маршрутами каждый день. Чем младше ребенок, тем меньше у него эта «своя» территория: дом — школа, школа — дом — кружок, а по дороге присматривают родители. Только подростки «гуляют», но и у них для этого есть свои проверенные, излюбленные места и маршруты. Когда ты ходишь в одни и те же места одним и тем же путем, ты быстрее замечаешь изменения. Что появилось или пропало с начала войны?
— Флаги. Сперва они появились чуть-чуть. Потом больше и больше.
— Однажды мы вышли, чтобы идти в школу, и я говорю: вы не видите, что изменилось? Они: что? Я: да флаги! везде теперь флаги.
— Много флагов. Над каждым входом, а где-то и на каждом этаже.
Мне так и видятся швейные цеха, которые строчат российские триколоры. Страна-то большая. Скорее всего, все флаги этой весны куплены там, где подешевле, в Китае. Но все равно, очевидно, что это огромная статья государственных расходов.

Пока города разубраны так, точно в них живут торжествующие победители, война врывается к российским подросткам через узкие окошки телефонов.
— У меня очень село зрение с начала войны, я все время читаю в телефоне.
— Очень много читала, потом устала, снесла все каналы, оставила только один-два.
— Я читаю все, и брифинги Министерства обороны, и независимые СМИ, всех. Хочется понять, что происходит, а все так или иначе говорят только часть правды.
— Я только читаю, фотографии не смотрю, боюсь.
Другая тоже не смотрит, но по другой причине:
— Фото и видео служат для того, чтобы вызвать реакцию, а мне интереснее механизмы того, что происходит. Мне не нужно доказывать, что на войне умирают.
— Мне проще через видео и фотографии. Только глаза расплываются. Проще, когда озвучено.
— А что ты имеешь в виду — глаза расплываются? — спрашиваю. Но она тут же захлопывается: «Чо?». Крутые девочки не плачут.
Я против войны
С первых же дней войны государство обрушило огромные карательные усилия на то, чтобы остановить всякое протестное движение, прекратить обсуждение войны в российском обществе. Уже одно это показывает: обсуждение равно осуждению, и этого факта государство неимоверно боится. Протест после запретов не угас. Он превратился в торфяной пожар. Что это такое, петербуржцы, например, знают очень хорошо: пламени не видно, все тлеет где-то, а город постепенно заволакивает дымом. Протест обрел форму мелких знаков, которыми делятся друг с другом, с городом, с миром, с любым, кто увидит. Антивоенные стикеры, граффити, листовки, фигурки, ценники, ленты. Их оставляют быстро, на ходу — кто-то оставляет, чьи-то невидимые руки. И их собственные руки.
Дети постарше и подростки рассказывают об этом со смесью ужаса и восторга. Восторга — потому что это как будто такая игра. Точно сами они — в сказке про Мальчика-с-пальчик, который водит за нос людоеда. От нее не понарошку колотится сердце, этот страх совершенно подлинный. Эти дети уже знают, что государство хватает наобум, но не церемонится и с подростками. Толково объясняют мне, по какой статье нынче забирают, какие штрафы, какие сроки, что такое административное задержание, как ставят на учет. Они боятся не только сроков и штрафов, и даже не столько их. Боятся, что будет переживать мама. Что напугается бабушка («а ей нельзя»). Что папа скажет: как же так, я же предупреждал. Что училка донесет в ФСБ. Но еще больше боятся, что их будут хватать чужие грубые руки, что на них будут орать, лаять, рявкать взрослые в форме: раскормленные мужики или бабы — когда тебе 11, все взрослые кажутся крупными.
Они боятся. И все равно делают. Преодоление страха окрыляет.
— Мы стали везде повязывать зеленые ленточки. Причем они появляются все в новых местах. Я хотела повязать свою. Гляжу — а там уже висит. Стало так приятно.
— Я ношу два браслета с цветами украинского флага.
— Мы сами сделали значки. — Вы их носите в школе? — Да, в школе. А когда выходим на улицу, то мы не меняем свое мнение, мы просто снимаем и прячем значки. — Почему прячете? — Страшно. — Чего вы боитесь? — Что какие-то взрослые могут нас побить или что-то сказать.
— В метро на плакаты за войну народ все время лепит свои стикеры или просто жвачку.
Государственная пропаганда — она тоже раскормленная, мордатая, она везде. Города оклеены, завешаны баннерами и плакатами. Государственная пропаганда отпечатана в типографии, она сделана за деньги, упакована, расфасована, доставлена. Она промышленная. Это бизнес, ничего личного. А в протесте все наоборот: здесь все делают сами, рисуют как умеют, пишут от руки. В этих знаках лично все, и прежде всего, выбор. Это выбор конкретного человека, дело его собственных рук. Эти крошечные знаки — своего рода мимолетные прикосновения человека к своему городу, они стали важной и заметной частью городской среды. Появляясь и исчезая, снова появляясь (не существует такого дворника, который угнался бы за подростками), они словно пульсирующие огоньки: сигналы тем, кто думает так же, «просто боится или не может сказать».
— Не хочу употреблять пафосные слова, но, наверное, смысл в том, что ты не один.
— Когда я вижу что-то такое по дороге в школу или из школы, я всегда фотографирую это и сохраняю себе. — Сколько у тебя уже таких фоток? — Больше пятидесяти точно.
Я их ненавижу
Рассказы тех, кто против, накапливались, быстро превратились в большинство, которое день ото дня становится все больше. Есть еще другие: как одна девочка это назвала, «амбивалентные». Не против и не за, то есть сами не знают, за что и против чего, смятенные, взбаламученные, они, казалось, приходили ко мне за чем-то другим — ясностью? ответами? Не знаю. Но ни одного отчетливого, убежденного и уверенного «за» мне не встретилось. А ведь именно мнение сторонников войны кажется мне наиболее важным: для пристального всматривания, осмысления. Что такой ребенок думает? Как укладывает у себя в голове? Вот что хотелось увидеть.
Быть против войны — это как раз понятно, в высшей степени естественно. Не одобрять разрушения, гибель и страдания мирных людей, детей — что в этом странного? Что непонятного? Разве здесь надо что-то объяснять? Вот одобрять и поддерживать умерщвление людей — это действительно непонятно. Кончилось тем, что я таких детей искала уже специально и продолжаю искать. Пока не нашла.
И не знаю, как это толковать. Возможно, фильтром становлюсь я сама со своими «Ленинградскими сказками». Семь лет на протяжении этой серии я рассказывала про то, что трусость — это беда, а смелость означает бояться, но все равно идти вперед. Я писала, что больно — всем, что война — это ужас и трупы, а не парад и салют, что на войне нет победителей и побежденных, а есть убитые и убийцы, что нет никакого «мы», а есть только «я» и собственный выбор каждого. Когда разговор идет на этом уровне, из речей про войну сам собой выпадает запал.

Все это так. Но давайте скажем объективно: в довоенной России с ее «можем повторить» «Ленинградские сказки» вовсе не стали национальным бестселлером или подростковым мейнстримом, полагаю, большинству детей на меня плевать (или скажем академичнее: мои книги не настолько им важны).
Я думаю, что в моем опросе оказалось, что все дети против войны, потому что все дети и есть против войны. Поговорим об «амбивалентных».
— Ну, это плохо, но это правильно. — Почему правильно? — Они сами бы на нас напали рано или поздно. — Погоди, поясни свою мысль. Кого ты имеешь в виду, кто «они»? — Америка. — Погоди, что-то я потеряла нить. Как это Америка? Как ты это понимаешь? Ведь дело в Украине происходит. — Америка ее поддерживает. — А ты кого поддерживаешь? — (быстро и задиристо) Я поддерживаю свою страну. — Ты как-то выражаешь свою поддержку? — Нет. — Почему?
Долгая пауза.
— Ну…
Долгая пауза.
— А надо отвечать?
— Нет-нет, не обязательно отвечать на все подряд. Поехали дальше?
Кивает. Едем дальше. Неотвеченный вопрос остается позади, но не исчезает. Он как заноза.
На их главные, подлинные вопросы пропаганда не отвечает. Если я против войны, то что же — значит, я против России? Я свою страну, выходит, не люблю? Значит, я за войну? Круг никак не замыкается.
— Стараюсь не думать, отходить от этой темы.
— Стараюсь не вникать.
— Обсуждали с подругами. — Что решили? — Либо Путин дурак, либо Зеленский дурак. Оба виноваты. А мирные люди не виноваты.
Их вопросы требуют ясных определенных ответов. Именно поэтому такие вопросы называются «детскими». Подростки не мямлят «все сложно», «все не так однозначно» или «всей правды мы все равно никогда не узнаем». Они требуют ответа. Несложного, однозначного, прочного, прямо сейчас, и то, что у них его нет, сильно крутит мозги.
Кто-то соскакивает на контробвинения. Это тоже защита:
— Это просто расизм. — Что ты имеешь в виду? — Наказывать людей за то, что они просто живут в стране, где они родились. Год назад те же американцы боролись за чернокожих. Неприятно, обидно.
Через какое-то время у меня появляется общее рабочее название для этих разнообразных мыслительных усилий: как быть, когда твоя мама — людоед? От этого вопроса и взрослые-то сейчас прячутся.
— А Буча? — Я не верю, что российские солдаты могут такое делать. Я просто этому не верю.
— А Буча? — Что вы хотите!? Чтобы я свою страну грязью полила?
— А Буча? — Это вы совсем запутались. Бучу подстроили.
«Россия — великая страна», «У России великая культура», «Америка ненавидит Россию», «а нам они тоже не нужны», — все фразы-заслонки, фразы-щитки так или иначе сводятся к этим. Тяжелее и больнее всего эта борьба дается тем, у кого прямо сейчас отцы, отчимы, дяди, братья воюют в российской армии.
В 442 году до нашей эры Софокл написал пьесу про девушку, которая идет даже на смерть, чтобы по-человечески похоронить своего погибшего брата Полиника, хотя ей говорят: он погиб как преступник, за неправое дело, он покрыт позором. В 1943 году версию этой пьесы написал Жан Ануй.
Если я против того, чтобы гибли люди (а что против — здесь, слава богу, всегда консенсус), то значит, я против войны? А если я против войны, значит, я против моего папы, дяди, отчима, брата?
— Меня оскорбляют такие разговоры и вопросы.
И я понимаю, что это голос Антигоны.
Назови ее своим именем
У Антигоны простое русское имя. Входит в России в пятерку самых популярных.
Но я не требую ни у кого фамилий, номеров школ. Не веду видео- или аудиозаписей, пишу ручкой на бумаге. Иногда я останавливаю разговор: погоди, я хочу записать все подробно. Или: погоди, мне кажется, сейчас ты говоришь что-то очень важное. Я задаю вопросы, на которые не может быть «правильного» или «неправильного» ответа, а только — просто ответ. Тем не менее война идет, само слово «война» в России наказуемо, случается, что учителя пишут доносы на собственных учеников, ученики — на учителей или одноклассников, слова «страх» и «бояться» мелькают в разговорах так, как не должно бы у детей. Я несу ответственность за доверенные мне рассказы.
— Мы можем назвать тебя как-то иначе, как ты хочешь?
Она думает несколько долгих мгновений, потом мотает головой, и говорит: нет, если я ***, то я — ***.
Я записываю от руки: ***, 11 лет.
*** рассказывает, как заспорила о войне с одноклассником, мальчишка пригрозил ей, что побьет, если она не заткнется. Признал свое бессилие, удовлетворенно поняла ***. Но добавляет, что готова была драться за убеждения.
Потом я набираю текст на компьютере. Мои руки зависают на *** словах «просто глупый мальчишка». Мысль о том, что мальчишка может оказаться не таким уж дураком, а его родители могут узнать ***, потом настучать, потом… Я возвращаюсь к началу, стираю имя.

Может быть, мне следует называть своих собеседников просто «девочка», просто «мальчик»? Или тем самым я, наоборот, незаметно для себя перейду какую-то роковую границу, поддамся государственной риторике обезличивания, которое по инерции свободного падения всегда переходит в дегуманизацию, расчеловечивание? Российский чиновник Лавров называл погибших в Украине людей collateral damage, Путин — «расходным материалом», а людей, которые с ним не согласны, — мошками. В гитлеровских лагерях трупы умерщвленных людей называли «фигурами».
Она — не мошка. Она живет в Петербурге, ей одиннадцать, она потребовала назвать ее своим именем. И все же я пишу: девочка.
Маленькие
— 24 февраля я помню очень хорошо. Я пошел в школу. Я завидовал малышам. Тому, что они не понимают, что происходит.
Самые младшие мои собеседники — пятилетние. Для них привычные улицы вроде бы не изменились. Никто не рассказывал мне про российские флаги, возможно, эти флаги висят слишком для них высоко. Маленький ребенок смотрит обычно вниз, его взгляд ближе к земле, к тротуару. Он замечает жуков, сложную жизнь в траве, рисунки на асфальте.
— Был флаг, я такой никогда раньше не видел. — Как он выглядел? — Синий с желтым, две полоски. Что это за флаг? — Это украинский. А где ты видел? — Видел, его кто-то нарисовал мелками.
У пятилетних людей нет телефонов. На улицах они подмечают перемены, которые важны и ценны в пять лет, к войне отношения это не имеет:
— Новые ларьки на колесах — с кукурузой и леденцами.
А если имеет, то связи они не видят. Они не понимают, что это:
— Стояло очень много людей с черными головами. В шлемах.
В пять лет сама концепция войны не вполне ясна, как не ясна еще и концепция смерти, — в пять лет все люди бессмертны. Ясно только, что война — это то, чего быть не должно.
— Почему воюют, я не знаю. Договориться могут, но не хотят. Очень плохо, что гибнут люди, надо договориться.
Одна шестилетняя девочка — исключение, она знает, что сейчас идет война. «Мы были, наверное, неосторожны, — смущенно говорит ее мама. — Когда все началось, у нас дома были друзья. Мы все это бесконечно обсуждали. Может быть, это неправильно». Девочка не хочет со мной разговаривать. Но разрешает маме прислать свои рисунки, которые сделала с начала этой войны.

Больше никто из моих самых младших собеседников не знает, что идет война, что их страна напала на соседнюю. Родители очертили их магическим кругом молчания. Правы родители? Не правы? У них нет языка, чтобы говорить о войне с пяти-шестилетним ребенком. Одно дело — война вообще. Другое дело — вот эта война: которую развязала твоя страна. Как сказать человеку пяти лет, что наша страна напала на соседнюю? Как объяснить, почему? Вот и молчат.
— Я обиделся на папу. Он не купил мне пиратский пистолет. Он сказал, что купит любую игрушку, потому что у меня был день рождения. А пистолет не купил. — Почему же пистолет не купил, он тебе сказал? — Он сказал, что это неправильно. — Что неправильно? — Папа сказал, нельзя играть пистолетами.
«Он не понял, что произошло, — предупреждает меня другая мама о своем маленьком сыне. — Но он теперь очень боится, когда папа уходит, когда взрослые куда-то уходят».
На этих детей не падают бомбы, как в Украине. Они никогда не слышали разрывы снарядов. Не видели разрушенных домов. Они даже не знают, что идет война. Но война все равно просачивается к ним через взгляды и разговоры взрослых, через поступки, микроскопические решения, которых и сам не замечаешь, война потихоньку пропитывает защитный войлок счастливого детства.
Для пятилетнего человека, который о ней не знает, эта война идет вот так:
— Мама теперь все время смотрит в телефон.
Этот мальчик
— Один мальчик пошутил на уроке про украинцев. — Ты не помнишь, что он сказал? — Нет. «Укропы», а больше не помню. — Тебе это показалось необычным? — Да. — Почему? — Учительница после этого заплакала.
— На одном дыхании сказал, что у него семья живет в Херсоне и что надо «выпустить туда чеченцев, чтобы они всех там [изнасиловали], чтобы у нас была под боком страна ручных чеченцев».
— Один мальчик ходил и всем показывал видео под «Катюшу», там были трупы украинских солдат.
«Этот мальчик» есть если не в каждом классе, то в каждой школе точно. Я слушала моих собеседников и думала, что сама знаю этого мальчика. Я тоже с ним училась, о том, что его мысль не дремлет, возвещал внезапный гогот с задней парты. Этот мальчик раньше всех пробует курить, из его рта вываливаются похабные замечания, более страшные, чем непристойные, но и это не всегда и не у всех. Он может и мимикрировать. Этого мальчика родила не путинская пропаганда. Он вечен. С ним будут учиться и наши внуки. Он кончится только вместе с миром. Обычно «этого мальчика» сдерживает и вводит в рамки общественное неодобрение — одноклассников, прежде всего. Когда общество расколото, этика искорежена, общественный договор треснул, то энергия «этого мальчика» прорывается наружу, торжествует. Само время тогда кажется временем «этих мальчиков».
— Они требовали, чтобы я встал на колени перед ними и извинился. — Как они выглядели? — Ну. Мальчики. Как выглядят мальчики.
Эту энергию можно назвать «ксенофобией», но это бы слишком упростило дело. Ксенофобия — лишь одна из форм, которую принимает эта темная материя. Из нее можно лепить, что угодно. Например, армию.
Уже много сказано о том, что путинская армия, которая воюет в Украине, набрана в основном из депрессивных или полудепрессивных регионов, на окраинах, в глубинке, по медвежьим углам. Если знать только это, то рисуется некое хтоническое, кишащее ужасом болото, на поверхности которого серебряными бляшками плавают Москва, Питер и еще несколько городов-миллионников. Но «Ленинградские сказки» познакомили меня и с этой Россией тоже: «Едем в школу, на первой телеге дрова для школы, на второй — сами дети». Поэтому я знаю другое: какую колоссальную роль в России сельских школ и крошечных библиотек играют неравнодушные взрослые. Круги света от каждого такого человека расходятся далеко. «Пожалуйста, придите поговорить, — пишет мне одна женщина. — Дети инеем покрываются». Будем передавать и отогревать по одному.
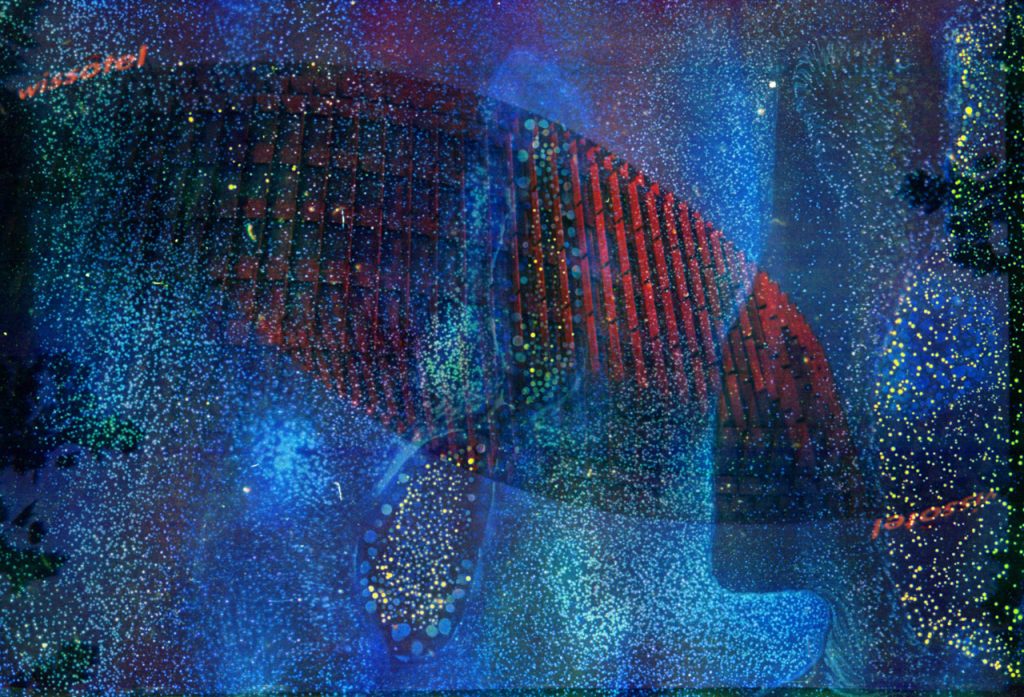
Дело не в географии и даже не только в бедности. В Москве или Петербурге «эти мальчики» тоже есть. Растут они и у профессоров, и у рабочих, и в полных семьях, и у матерей-одиночек. Бывают они и девочками. В общем, мы разговариваем, и в какой-то момент я понимаю, что ребенок кричит — на меня, на мир, на то, что жизнь такая:
— Никто не виноват в ненависти! Я ненавижу чеченов! Таджиков! Мне на этих украинцев плевать! Я много кого ненавижу! Да! Я плохой человек! Но я не хожу и не ору: сдохните, твари! Тогда я буду монстр. Виноваты — не те, кто ненавидит. Виноваты — монстры. Виноваты те, кто эту ненависть реализует. Эти люди просто монстры.
Человеку, который это понял, 13 лет.
Оно
С самого начала войны в России была введена жесточайшая военная цензура. Само слово «война» в один день стало незаконным. И в тот же самый день взрослые люди, мои друзья, мои знакомые, мои коллеги перешли на язык умолчаний, недоговорок, иносказаний и так быстро достигли виртуозности, точно готовились давно. Легкость, с которой это произошло, была страшноватой. Речь мутировала, причем даже та, которую не могут расслышать государственные уши: разговоры друзей, разговоры наедине, разговоры на кухне, разговоры на прогулке. На них легла четко различимая печать: теперь это были разговоры во время войны.
Войну с Украиной никто не называет так, как предложило государство: «специальной военной операцией».
Вообще, почему властям понадобилось это выражение, как ты думаешь? Какой в этом смысл? — задавала я вопросы своим собеседникам. Мнения едины независимо от возраста:
— Слово «война» слишком страшное.
— Потому что война — это что-то большое, серьезное, важное.
— Потому что если сказать война, то все, назад дороги нет.
— Если сказать «война», люди сразу испугаются: война же!
— Потому что война — это катастрофа.
— Бюрократия, PR, все вместе.
— Чтобы внутри страны не было ненужных разговоров и отождествлений с 1941-–1945 годами.
Дети избегают слово «война» вслух. А я в каждом разговоре называю ее так, как первым назвал собеседник: «эти события», «капец», «весь этот ужас», «происходящее», «всё» («когда всё случилось»), «это».
Смотри-ка, не раз замечаю я мимоходом, нас с тобой никто третий не слышит, а мы с тобой все равно говорим: «происходящее». Или «события». Человек на миг задумывается, кивает, вздыхает, сглатывает, смотрит в сторону. Но и после этого не называет войну «войной». Или же заставляет себя, но тогда слово мешает, не поддается во рту. Оно такое короткое, двусложное, удобное, но его так трудно сказать.
Величайший современный знаток ужаса Стивен Кинг неспроста назвал свой лучший роман о детском страхе «It». Это. Оно.
Война — это «оно».

Макбет зарезал сон
Однажды мне снится сон, и я понимаю, что он про войну. Мне снится кошка с котятами. Я делаю много мелких ненужных движений, чтобы перенести котят в другое место, которое мне самой неизвестно. А потом приходит собака и съедает их всех.
На этих детей не падают бомбы. Их дома не разрушены. Они не были ранены осколками снаряда. Некоторым пришлось уехать вместе с родителями, но и тогда это было не бегство из-под обстрела. Их травма называется «травмой свидетеля». Травма человека, который видит, знает и ни на что не может повлиять. Пока что — не может.
— Надо мной пролетел самолет, загрохотало, мне стало реально страшно, хотя я знаю, что это просто самолет, никакие бомбы оттуда не попадают.
— Я стала бояться, когда на меня смотрят.
— Я стараюсь поменьше выходить из дома.
— Со стороны может показаться, что я просто сижу с телефоном и вздыхаю. Но это не так.
— Он был в зеленой форме, и мне прям страшно стало, сердце заколотилось само.
— Я недавно понял, что не могу слушать тяжелые шаги. То есть мне с самого детства нравился звук каблуков, стукающих по паркету или плитке, но сейчас, когда я иду по тому же асфальту и слышу свои шаги, у меня в голове сразу встают картины из Бучи и просто видео из остальной Украины. Я как будто бы сам становлюсь тем русским солдатом, который убивает мирных жителей и стреляет в роддома. Мне стало противно слушать звук собственных шагов, поэтому я теперь стараюсь ходить максимально тихо, лишь бы снова не услышать этот звук.
— Мне приснился сон, что весь город увешан зелеными лентами. Знаете, как делают к Новому году, когда висят гирлянды через весь Невский проспект. Только в моем сне он был увешан не гирляндами, а зелеными лентами, и будто бы это сделали к Пасхе. Нельзя же запретить Пасху и весну.
Зеленые ленты — символ антивоенного протеста. Эта девочка старше Джульетты, и моложе пушкинской Татьяны, но ненамного. Ее сон — про то, что в Нарнию придет весна.






