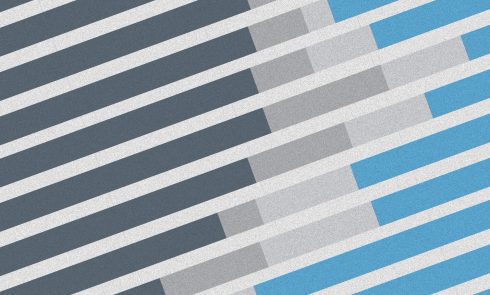Основательница «Дождя» Наталья Синдеева собирается перезапускать канал в Европе. Она рассказала главному редактору «Холода» Таисии Бекбулатовой о том, как планирует заново отстроить телеканал и искать язык для разговора с россиянами, а также о вине, ответственности, цензуре и будущем, которое обязательно наступит.
Это сокращенная текстовая версия интервью. О том, как редакция «Дождя» собралась и уехала, кто финансирует канал, вернется ли Павел Лобков, почему Дмитрий Медведев постит в соцсетях то, что он постит, и о многом другом — смотрите в видеоинтервью Натальи Синдеевой на ютуб-канале «Холода».
О закрытии и перезапуске «Дождя»
«Дождь» объявил о приостановке вещания 3 марта. Как вам сейчас кажется, можно было этого избежать?
— Мне кажется, нет, невозможно. На следующий день был принят закон о фейках, и если в онлайн-СМИ можно дать себе какую-то отсрочку, то мы работали живьем. И понимали, что через три минуты эфира нарушим этот закон. А ставить под угрозу людей, находящихся в эфире, мы просто не имели права.
Когда началась война, я собрала коллектив, сказала, что мы должны работать еще больше, еще мощнее — сколько сможем. Потом, когда нас заблокировали — кажется, это было 1 марта, — мы все равно решили, что продолжаем работать. И третьего числа мы вместе приняли это решение [о приостановке]. Я плакала, мы все вместе плакали. Володя [Роменский, журналист «Дождя»] сказал: «Мы не сдаемся, мы просто отступаем, чтобы не погибнуть».
Расскажите про перезапуск.
— У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7. Компания будет одна — европейская, но будут филиалы в разных странах.
О детях и муже
Где вы осели, где ваша семья?
— Пока нигде. Четыре месяца путешествий с чемоданами. Планирую год жить в Амстердаме — там тоже будет хаб [«Дождя»]. Если бы я жила в Риге или в Грузии, я бы точно не выучила английский. А так вызов: давай, жизнь тебе сказала, что ты должна это сделать.
А дети, животные?
— Собаку я очень хочу перевезти. Сын поступил в амстердамский университет, поэтому мы уже будем вдвоем. Дочка останется учиться в Австрии, как она и училась.
Эмиграция — это эмоционально сложно, но вы еще и развелись незадолго до этого. Кто вас сейчас поддерживает, за счет чего вам удается получать какой-то эмоциональный ресурс?
— У нас с Сашей (Александр Винокуров — предприниматель, совладелец сети клиник «Чайка», был инвестором «Дождя» и других медиа. — Прим. «Холода») прекрасные отношения. Мы развелись, у меня своя жизнь, у него — своя. Но мы очень близки, мы друг друга поддерживаем, поэтому нет такой проблемы.
И потом, я еще не считаю, что я в эмиграции, потому что пока я на чемоданах где-то гоняю. Как только я перееду, у меня будет квартира, я сложу свои вещи и начну спокойно жить. И в этот момент, я думаю, меня будет накрывать… Накрывало меня эти четыре месяца просто от всяких бытовых неудобств: сначала у тебя карточки не работают, потом телефоны, приложения. Но на фоне того, что происходит в Украине, это фигня.
О диалоге и примирении
Сейчас, мне кажется, одна из главных проблем у эмигрировавших медиа — как достучаться до российской аудитории. Как думаете, удастся?
— Конечно. Мы точно должны очень постараться. Важно найти правильную интонацию. Мы об этом много говорим и думаем. Это большая разница: ты вещаешь из России или нет. Есть опасность потерять какую-то часть российской аудитории только потому, что мы уехали. Интонация сопереживания, сострадания, очень гуманистическая, антивоенная должна нас всех объединять.
У вас нет разочарования в российском обществе?
— Над российским обществом поставлен эксперимент — жестокий, ужасный. Много лет целенаправленно, через разные каналы, разным языком, с разной аргументацией общество делили на своих и чужих, готовили к этой войне, объясняя, что весь мир объединился против России, что НАТО хочет с нами воевать. Вы же наверняка уже посмотрели фильм Андрея Лошака («Разрыв связи» — исследование того, как отношение к войне раскололо российское общество. — Прим. «Холода»). Я знаю таких людей, они же правда там все искренние. Нельзя разочаровываться, нужно просто понимать и думать, что с этим делать, как нам всем этим людям помочь, и нам помочь.
Для вас стало сюрпризом такое влияние пропаганды?
— Да. Мне казалось, что люди все-таки понимают, что там говорит Соловьев. А оказывается, нет. Одна из задач для нас всех — каким-то образом не только интонацию найти, но и слова, чтобы поговорить с людьми, которые искренне считают, что если бы мы не вошли туда, то на нас напали бы. У меня есть близкие друзья, образованные, которые искренне задают вопрос: «А ты понимаешь, если бы они напали?». И я понимаю, как важно нам построить диалог и не поругаться.
Удивительно, что у вас все еще есть желание сохранить конструктивные отношения.
— Иначе нам не справиться. Нам всем жить долго, нашим детям жить. Этим людям тоже надо помочь. Я этому другу сказала: «Слушай, напали бы, тогда мы защищались бы». Это же надо найти какие-то слова, а не «дурак, никакое НАТО не собиралось нападать».
О разговоре с властью
В какой-то момент вы говорили, что гордитесь, что «Дождю» удалось уйти от «болотного» активизма и стать объективным медиа. Как вам кажется, в нынешней ситуации «Дождь» сможет стать беспристрастным медиа?
— Я тут поправлю. Мы перестали в какой-то момент быть активистами, повзрослели, поняли, что лучше быть над схваткой. Но мы никакое не объективное медиа. И нет в нашей позиции и в позиции любого нормального журналиста объективности. Есть объективность факта, да. Объективности [самой по себе] быть не может. Я субъект, я нанимаю на работу главного редактора с определенными взглядами, он нанимает похожих журналистов. Мы никогда не были объективными в этом смысле, всегда свою позицию сохраняли. И сейчас мы точно на стороне добра, а не зла. Но, конечно, мы будем очень стараться строить диалог — не только с людьми, о которых я рассказывала, но и в том числе с людьми, которые во власти. Мне сейчас скажут: как можно быть с преступниками в диалоге? В каких-то случаях — нужно. А с теми, кто совсем продал душу дьяволу — невозможно.

Где эта грань — совсем или не совсем?
— Мне было бы интересно поговорить с [главой Центробанка] Эльвирой Набиуллиной и даже с [первым замглавы администрации президента Сергеем] Кириенко. Мне хочется понять мотивы — что там в голове, насколько это маска, которую ты надел, или ты уже действительно в это веришь? Я считаю, что человеку надо давать шанс, любому. Потому что мы не черно-белые. Хотя сейчас понятно, что, когда гибнут люди, неправильно говорить, что есть еще какие-то краски. Но мне кажется важным этих людей тоже услышать.
Вам кажется, у них есть какой-то сложный ответ на этот вопрос?
— Я думаю, он есть. Вопрос в том, готовы ли они об этом говорить.
Вам не кажется, что эта грань, когда можно было иметь какие-то благие мотивы, находясь во власти, уже перейдена?
— С одной стороны, да. Но я все равно хочу попробовать понять, как человек одобряет действия российской армии, хочу понять почему. Мы же не знаем, может, они в заложниках кого-то держат, понимаете?
Мне кажется, вы очень добрый человек.
— Это как мое письмо девушкам: Симоньян, Захаровой, Канделаки.
Вы правда верили, что они что-то вам всерьез ответят?
— Я не то что верила, я чувствовала, что должна это сделать. И казалось, что, может быть, у меня получится чуть-чуть достучаться. Как минимум, у меня может получиться достучаться до людей рядом, которые, может быть, примут какое-то решение.
И как вы оцениваете результат?
— Я получила много сообщений в личку от людей, которые как раз были в этом состоянии: стать Овсянниковой или не стать, публично или непублично. Они где-то были рядом, и для них это письмо стало последней точкой перед принятием решения — встать и уйти. И мне кажется, если мне удалось достучаться до этих людей, значит, это было не зря.
О запретах
«Дождь» блокировали в Украине за карту, где Крым был частью России…
— И сейчас заблокируют точно так же.
Можете рассказать эту историю со своей стороны? И как вы думаете, как будут дальше складываться отношения «Дождя» с украинской аудиторией?
— Я сейчас не помню всех деталей. Наша редакция следила, чтобы не нарушить закон ни одной, ни другой страны. Но человеческий фактор [играет роль]: случайно эта карта вылезла (в январе 2017 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание «Дождя» из-за того, что в передаче «Здесь и сейчас», а также на сайте телеканала показывали карты, на которых Крым был обозначен как часть России. — Прим. «Холода»). Понятно, что в Украине были радикально настроенные антироссийские активисты, которые вытащили эту карту и стали спрашивать, как это так.
Мы реально нарушили закон Украины. Нужно было внимательнее за этим следить. Но мы тогда это восприняли странно, потому что все ведут себя как Путин. Я вообще считаю, что не нужно ничего запрещать, закрывать, банить. Надо создавать условия, чтобы разные работали. Хотя сделаю поправку: учитывая, какое преступление совершила пропаганда, может быть, надо банить и закрывать, чтобы не создавать той ситуации, что случилась. Потому что я считаю, что если не было бы восьми лет промывки мозгов, то не было бы той поддержки Путина, которая нужна была ему, чтобы развязать эту войну. Может, и надо банить, когда это очевидная пропаганда, — но в целом любые запреты мне не нравятся. Мне не нравятся, когда RT запрещают где-то. Это тоже неправильно.
Серьезно?
— Угу. Ты можешь наказывать за фейк, за вранье, доказывать это. Ты можешь включать какие-то другие рычаги.

Есть же такой принцип — никакой свободы врагам свободы. Вы не разделяете его?
— Нет. Понимаете, это как про демократию. Демократия — это сложный процесс. Я по управлению компанией могу сказать. Периодически хочется топнуть, хлопнуть и сказать, что будет так, и все.
Вы так не делаете?
— Уже давно не делаю. Бывают моменты, когда я чувствую, что надо чуть поддавить, чтобы сделать правильно. Но у меня не всегда получается переубедить, и я иногда соглашаюсь с решениями, которые мне казались неверными. Если мы хотим построить действительно нормальное общество с нормальными демократическими ценностями, со свободами, то важно учиться, даже на этом уровне.
Я помню, когда нас закрыли в 2014 году (операторы массово исключили «Дождь» из пакетов вещания после опроса, проведенного телеканалом к годовщине снятия блокады Ленинграда: зрителей спросили, «нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней»; в Госдуме этот опрос расценили как реабилитацию нацизма. — Прим. «Холода»), была большая волна [поддержки] от людей, которые не были фанатами «Дождя», не разделяли наши взгляды. Они говорили: у нас ушла вторая точка зрения. И поэтому я считаю, надо не запрещать других.
Об эмиграции, стыде и России будущего
Вы собираетесь ставить плашку про иноагентство?
— Это компания не российская. Начинаем с чистого листа. Если признают, будем ставить плашку. Из-за рисков для людей.
Насколько ваша команда разделяет ваше мнение о том, что не хочется эмигрировать насовсем?
— Никому не хочется. Все хотят в Россию. Все оказались без дома — это же очень сложно. И потом, это же не твой выбор. Не то чтобы я решила ни с того, ни с сего поехать пожить в Амстердаме год.
Но я уверена, что у нас у всех еще будет такая возможность, и мы будем все вместе строить эту прекрасную Россию будущего. Я очень верю. Пружина сжималась, а потом она пойдет в другую сторону — мы это тоже проходили. Вы-то просто молодая, а мы помним это прекрасное время начала 1990-х, которое было фантастическим по ощущению свободы, будущего.
Сколько вам было лет?
— 20-22. Понятно, что мы молодые были, и это добавляло свои прелести, но это было невероятное время возможностей. Когда ты открылся, страна открылась, мир открылся. Я помню, как я хотела приезжать за границу и чтобы у меня на лбу было написано, что я из России. Такая была гордость. Потому что мы настолько быстро осваивались в новых реалиях, рынке. При этом я понимаю, как тяжело было людям, сколько судеб было поломано. Но это была страна, которая дышала свободой. Мы это застали — и мы это еще застанем.
А сейчас у вас нет стыда из-за того, что вы из России?
— Вообще нет. У меня нет стыда, я гордо говорю, что я из России. И я все время говорю, что Путин — это не Россия, люди — это не Путин. И бомбит Украину не русский народ, хотя многие украинцы считают по-другому. У них есть право так считать, но я все, что могла, старалась делать. У меня нет стыда — у меня есть боль.
У меня нет слов для них. Наверное, я через тело это понимаю, хотя не знаю, что сказать в этот момент. У меня было несколько таких ситуаций. Девочка-официантка где-то в Берлине, молоденькая, видит, что русские, но вроде нормальные… Мы с ней разговорились, и она начинает рассказывать, что она из-под Ирпеня. И вот я ее прижала, двадцатилетнюю девочку. И ее отпустило, и меня отпустило.
Да, я боюсь, понимания мы еще долго не достигнем. Оно только на личном уровне сейчас возможно.
— Конечно, и у них есть полное право плевать нам в лицо. Конечно, это трагедия, с которой нам всем жить не один десяток лет. Но я думаю, что если поменяется вектор, то можно все восстановить. Я сейчас не про отношение Украины к нам, не про прощение. Если мы люди — надо покаяться, извиниться, надо найти эти слова. А мы никогда этого не делали, у нас же имперское [сознание]: мы никогда не просили прощения, не говорили, что мы были неправы. В конце концов, почему десталинизации не случилось? Ее реально не случилось. Не был признан геноцид собственного народа, чтобы все это осознали. Не успели. Нам надо не наделать снова ошибок.
Не успели или не хотели, как посмотреть.
— Я думаю, что не успели. Очень сложно было. Я и те, кто прошел 1990-е, много про это думаем — где наша вина, ответственность, почему не сделали, почему не случилось. Тяжелейшая была экономическая ситуация, и все силы были кинуты на то, чтобы вытащить страну из полной разрухи и нищеты. А на эту часть не хватило времени. Вот был центр экономических реформ, а этических… Это же нужно объяснить людям. А то переходим к капитализму, а не объясняем, что такое частная собственность. Какова ее ценность, почему это важно, почему важна человеческая жизнь. Как мне кажется, это одна из причин [войны]. И нам нужно всем думать про то, как это менять.
О вине Запада
Вы говорили, что не ожидали, что иностранные компании уйдут, просто чтобы перестраховаться. У вас есть претензии к тому, как сейчас поступает международное сообщество?
— Есть. Они не виноваты в том, что происходит, но, конечно, есть. На мой взгляд, циничность коллективного Запада налицо — мы видим это во многих моментах. Например, рекламодатели, которые уходили от нас. Недавно, кстати, я получила сатисфакцию. Я как раз была на [рекламной] конференции, я им все сказала: «Вы и ваши бренды, агентства, восемь лет финансировали ту самую пропаганду, от которой вы шарахаетесь. А до этого “Дождь” и большое количество независимых медиа были забанены, и нам вы никогда не давали рекламы, и мы до последнего времени были в черных списках». Это одна часть. Вторая: какие-то бренды уходят с рынка, официально закрываются, а потом начинают продавать непрямыми продажами, как-то обходят санкции.
Так называемый параллельный импорт.
— Да, все это наблюдается. В политике много цинизма. Никаких иллюзий, очарованности у меня нет. Другое дело, что я почувствовала за эти четыре месяца на человеческом уровне: европейцы очень сострадательные, они очень сопереживают. Я видела волонтеров в австрийской деревне, они там собирают деньги, едут на границу с Польшей, расселяют беженцев. Это исключительно их инициатива. И, видимо, это культура уже много лет — тут я снимаю шляпу. На человеческом уровне это у них уже достаточно глубоко. А все остальное…
Да, непонятно, как отказаться от русского газа, чтобы Европа не оказалась совсем замерзшей. Но кто сейчас финансирует бюджет войны?
Один из аргументов, почему вводятся санкции, — в том, что дальше ты приходишь и говоришь: «Путин, почему ты нам такую жизнь устроил? У нас теперь яхт нет, никуда не пускают, самолеты не летают». [Идея в том], что они могут как-то на него повлиять, устроить дворцовый переворот. Но так не работает, это дает ровно обратный результат.
То есть вам кажется, что Запад толкает условного Абрамовича и Фридмана в объятья Путина?
— Подталкивают, потому что там тебе [все] закрыли, ну тогда давайте тут все вместе сидеть. Я не политолог и не эксперт, это мои впечатления. Западные журналисты задают вопросы и удивляются: неужели они не могут что-то сделать, как-то донести до него? Нет-нет, так у нас не работает.
О любви и танцах во время войны
Вы готовы к новому роману? Или пока работа-работа?
— Может, даже и готова. Как всегда сублимируешь в работе, поэтому не успеваешь про это подумать. Но мне кажется, что да. У меня еще сейчас нет танго, поэтому…
А почему нет?
— Тренер остался в России, я все время мотаюсь где-то, а тренер нужен постоянный. Мне надо где-то остановиться, найти себе постоянного преподавателя и танцевать. Этого мне не хватает. Обычно танго компенсирует: вроде пообнимался, потанцевал, окситоцин получил — и пошел дальше, можно и без романа.

Я позволю себе этический вопрос, который у многих моих друзей сейчас возникает. Можно ли вообще веселиться и танцевать танго во время войны?
— Это вопрос, который я себе тоже постоянно задаю, и у меня нет на него ответа. С одной стороны, жизнь продолжается. Даже когда умирает твой близкий — ты прощаешься с этим человеком, ты переживаешь эту боль, но не закрываешь себя в черной комнате и в черной одежде. В том числе, потому что этот человек тоже не хотел бы, чтобы ты всю дорогу рыдал.
Если ты не закрываешь для себя, что идет война, что гибнут люди, что каждый день совершаются преступления, если ты реагируешь на это, что-то делаешь, помогаешь, то ты при этом остаешься человеком, который живет. Ты не сидишь в комнате и не плачешь с утра до вечера. И поэтому ты можешь и танго танцевать где-то на вечеринке, потому что ты пришел на день рождения, допустим.
Тут надо быть честным с самим собой: да, в моменте я сейчас танцую, а ночью я буду рыдать, потому что увидела очередную украинскую бомбежку. И это я — и здесь, и там. Я тут переживаю, а тут радуюсь.
До войны ваши последние интервью были в основном про то, что вы наконец чувствуете себя в гармонии с собой, нашли какую-то рифму с вселенной, что все получается и во все верится. Каково ваше состояние сейчас?
— У меня нет уже такого гармоничного состояния, потому что у меня нет дома — и это тяжело. Еще у меня опять огромная ответственность — а вдруг не получится? Это не только про «Дождь», а про то, что именно ты не сможешь справиться и сделать. И это меня держит в состоянии негармонии.
Надо постараться сделать очень хорошо. Я хочу «Дождь» всеобъемлющий, «Дождь», который полил бы всех нас. Я как-то так это вижу, что он будет всех объединять. Но я не знаю, получится или нет.
Поэтому план у меня такой. Хочу запустить «Дождь», чтобы все заработало, чтобы полетело. А потом можно поехать в Аргентину поучиться танго, потому что я хочу в какой-то момент попробовать стать чемпионкой мира по танго. Одна аргентинка сделала это в 65 лет. Так что у меня еще почти пятнадцать.